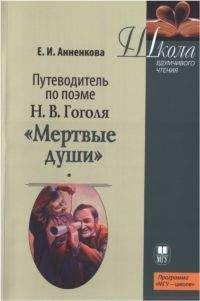Авторский взгляд на создаваемые главы второго тома нашел свое выражение прежде всего в последнем из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», включенных в «Выбранные места…». Гоголь начинает письмо констатацией сожжения второго тома поэмы, сразу подкрепляя этот акт словами апостола Павла: «Не оживет, аще не умрет» и поясняет их: «Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть» (VIII, 297). Творческая работа, ее результат измерены христианским высшим критерием, но оценка, данная Гоголем собственному труду, — это одновременно и оценка эстетическая: второй том производился с «болезненным напряжением», «потрясением» доставалась каждая строка, однако и в этой работе «было много того, что составляло… лучшие помышления и занимало душу…» (там же). Это характеристика не только духовного, но и творческого процесса, и результаты его также нелегко было уничтожить. После сожжения автор «вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то», что он «считал уже порядочным и стройным» (VIII, 297–298); в этом суждении проступает устремление Гоголя к стройности эстетической, но одновременно неудовлетворенность тем «порядком» произведения, который могла бы принять литературная критика, но который не являлся приемлемым, безусловным с религиозной точки зрения: душа художника, пребывающая в беспорядке, не может создать то стройное целостное сочинение, которое вносило бы порядок в души читателей. Гоголь ищет ту форму повествования и ту смысловую насыщенность слова, которые одновременно могли бы быть приняты и церковной, и светской культурой.
В 1845 г. Гоголь действительно сжигает написанные им главы второго тома. Был ли это завершенный том поэмы или ряд отдельных глав — в науке нет в настоящее время единого мнения, но неоднократное упоминание автором «второго тома» позволяет думать, что в первой редакции том в основном был написан, и неудовлетворенность им, остро переживаемая Гоголем в период очередной болезни, привела к сожжению в середине 1845 г. написанных глав.
Поясняя в «Четырех письмах…» причины сожжения, Гоголь одновременно формулирует то направление работы, которое — писатель в этом не сомневается — будет поддержано последующим его трудом, поскольку оно связано с его внутренним духовным состоянием. «Дело мое есть то, — настаивает Гоголь, — о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — душа и прочное дело жизни» (VIII, 298–299). «Бывает время, — поясняет он, — когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого» (VIII, 298).
Сам процесс работы Гоголя над вторым томом «Мертвых душ» представляет феноменологическую ценность как в историко-литературном, так и в духовном отношении: это уникальная попытка гармонично совместить собственно религиозно-нравственное становление с созданием новой литературы; попытка удержать равновесие, согласие художественного и религиозно-духовного начал; попытка сохранить духовный статус литературы при полном осознании, что духовное воспитание в точном смысле слова осуществляет прежде всего Церковь.
Гоголь многое предугадал в будущем развитии литературы, создавая второй том. Но то «наученье людей», к которому он считал себя призванным, оказалось, в его исполнении, более многозначным, чем можно было ожидать. Недаром в «Авторской исповеди» Гоголь прибегнул к выражению «писатель-творец», имея в виду писателя, который «ставши в уровень с веком, умел воздать ему за наученье себя наученьем его» (VIII, 456). Гоголь обнажил скрытые механизмы творчества, его неразрешимые коллизии, драматические для самого творца, но плодотворные для развития культуры, если они замечены и духовно осмыслены.
Обращаясь к сохранившимся главам второго тома «Мертвых душ», за основу возьмем позднюю редакцию, не ставя при этом задачу охарактеризовать том в целом, так как он не дошел до нас в завершенном виде, хотя описание некоторых уничтоженных автором глав сохранилось в воспоминаниях современников. До нас дошли четыре пронумерованные Гоголем главы второго тома «Мертвых душ» и еще одна, незавершенная, называемая в изданиях поэмы как «Одна из последних глав». Рассмотрим их, прежде всего обращая внимание на характер гоголевских героев (в сравнении с героями первого тома), на гоголевские описания, включающие в себя пейзаж, интерьер; на проступающие в тексте жанровые интенции автора и на непосредственное авторское слово (также в сопоставлении с тем, как оно звучало в уже проанализированных главах первого тома).
Пространство, открывающееся взгляду читателя в первой главе, разительно отличается от того замкнутого в пределы отдаленной губернии мира, с которым читатель познакомился в первом томе. Перед нами вновь провинция, «отдаленный закоулок», но в отличие от первого тома «закоулок», «глушь» олицетворяют здесь не столько отдаленность, сколько простор, необъятность. Если губернский город виделся изнутри и описание его было пронизано иронией, то здесь автор избирает иной ракурс: он смотрит на этот «закоулок» со стороны, а точнее сверху, охватывая своим взглядом все, почти всю землю, открывающуюся пытливому и жаждущему новых впечатлений взору, — «горные возвышения» возносились «над бесконечными пространствами равнин, то отломами, в виде отвесных стен… то миловидно круглившимися зелеными выпуклинами, покрытыми, как мерлушками, молодым кустарником… то, наконец, темными гущами леса…» (VII, 7). Можно вспомнить, что условен, даже фантастичен был пейзаж в «Страшной мести», повести первого гоголевского цикла, но и события, представленные в этом сюжете, далеки от обыденных. Про пейзаж во втором томе нельзя сказать: «Горы те — не горы… Те леса… не леса… те луга — не луга» (I, 246). Здесь река узнаваема, реальна, но очень уж хороша, сильна, во всех ее «коленах», «поворотах» и «извивах». Не экзотические растения произрастают на склонах, а «дуб, ель, лесная груша, клен» (и многое другое, дотошно перечисленное автором и хорошо знакомое читателю среднерусской полосы); «зеленые кудри дерев» так жизнеутверждающи и прекрасны, что скорее напоминают описание рая, чем реального гористого оврага. Природа видится в ее первозданности и нетленности, в непотревоженной красоте, с высоты птичьего полета. «Впервые открыто появившийся мотив „земного рая“ в начале сюжета… затем проходит через остальные главы» [90].
С. А. Гончаров соотнес пейзаж в начале второго тома с описаниями утопического пространства в древнерусской литературе, отметив в гоголевском тексте «черты древнего топоса, который обычно входил в проповеднические жанры, утверждая разумность и красоту Божественного миропорядка» и «составлял часть описания рая в апокрифических хождениях, видениях и других структурах с идеей нравственного пути, спасения и посвящения» [91]. А. Х. Гольденберг, кроме того, заметил, что наряду с дидактически-религиозной традицией Гоголь использует фольклорную: «Древнерусский утопический образ рая получает в первой главе второго тома явственно выраженную фольклорную окраску» [92], цветовая гамма, по наблюдению исследователя, выдержана в чистых тонах, характерных для цветового колорита постоянных эпитетов народной поэзии: зеленые луга и леса, желтые пески, белые горы и т. п.
«Господи, как здесь просторно!», — восклицание, которое вырывается у автора и ожидается им от каждого, кому откроются эти «без конца, без пределов» пространства, где «за лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зеленых поясов зеленели леса; за лесами, сквозь воздух… желтели пески — и вновь леса… и вновь пески» (VII, 8). Создание эстетического контраста (непохожесть открывающих второй том описаний на описания в первом томе) явно входило в авторский замысел. Повествующий о бесконечных пространствах автор на мгновение (пытаясь эти мгновения задержать и сохранить) освобождается от иронии, от необходимости изъяснять читателю (то серьезно, то скрываясь за шуткой) свою позицию; он позволяет себе побыть тем «счастливым писателем» (вспомним седьмую главу), который избирает для себя «высокое» в жизни, погружается в «возвеличенные образы», не считает себя обязанным говорить о «бедности» и «несовершенстве нашей жизни». Появляется также потребность (и возможность) иначе говорить о героях.
Владелец бесконечных пространств — помещик Тремалаханского уезда Андрей Иванович Тентетников. Ему, по замыслу Гоголя, должно было быть уделено существенное место во втором томе поэмы. Читатель имеет возможность сопоставить Тентетникова и Чичикова, обратив внимание на контрастность этих персонажей. Чичиков если не стремительно, то достаточно энергично вторгается в жизнь губернского города. Образ жизни Тентетникова характеризуется неторопливостью и покоем, которые можно было бы определить и иначе: герой ленив, поднимается с кровати «необыкновенно долго», за завтраком просиживает «два часа», праздно у окна сидит не меньше, в кабинете занимается лишь обдумыванием грандиозного сочинения, а вслед за этим, «до самого ужина», «кажется, просто ничего не делалось» (VII, II). Отнеся своего нового героя «к семейству тех людей», которые «на Руси не переводятся» и именуются «увальнями», «лежебоками», «байбаками» (там же), автор, как может показаться, достаточно однозначно охарактеризовал его и отправил в разряд тех, кто заслуживает сатирической оценки.