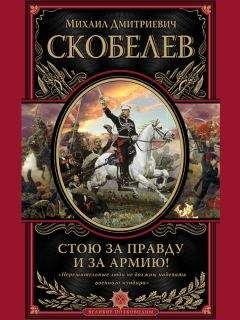Эдуард Мартинович Скобелев
Филиппыч
Рассказ
Филиппыч высок ростом и худощав. Ходит прямо, той редкой походкой, что скрывает годы и выделяет в толпе.
Вот и сейчас он шагает по аллее парка, энергичный и строгий, с пронзительным взглядом маленьких, близко посаженных глаз, и не обращает внимания на старичков и старушек, исправно совершающих моционы. Филиппыч презирает их за неожиданно пробудившуюся, слезливую любовь к собакам, тягу к пересудам, к жалобам на здоровье, к пространным повестям о снах, стулах и диетах. Эгоизм бездеятельной старости претит ему, в отчаянных заботах о гибнущем организме подозревает он оскорбительное, предательское и мелкое. «Чему быть, того не миновать», — покашливая и хмурясь, говорит он, когда знакомые, случайно узнав о его недугах, советуют «испытанные средства».
Он помогает по хозяйству сыну, с которым живет: ходит в магазин и на базар, заботится о внуке Петьке, выбивает ковры, чинит домашнюю технику, ремонтирует потолки и стены, — короче, хлопочет день-деньской и при этом ухитряется оставаться аккуратным и подтянутым.
Филиппыч привык командовать, но делает это незаметно и даже изящно: никто не обижается на него, никто не упрекает в своеволии или упрямстве. И сын, инженер городской электростанции, и сноха, завуч десятилетки, ни в чем ему не перечат: то ли соглашаются с ним всерьез, то ли понимают бесполезность возражений. Но скорее всего им просто невыгодно спорить со стариком: они редко бывают дома и зависят от его услуг.
Само собой сложилось, что с мнением Филиппыча считаются и посторонние. Даже Миша, дворник, известный буян и брандохлыст, не поносил и не объегоривал разве только одного Филиппыча. И это кое-что значит: как всякий аристократ духа, не сыскавший себе достойных занятий, Миша в людях разбирается лучше, чем ищейка в запахах…
В парке, куда забрел Филиппыч в поисках пятилетнего Петьки, уже сумрачно. По-вечернему грустно скрипит снег, лицо обжигает взявшийся вовсю мороз. В соснах, подступающих к аллее, на все лады перекликается воронье: готовится к ночлегу. Филиппыч жалеет зимующую птицу. Он не перестает удивляться, как это в лютую стужу, да еще при пустом желудке, пернатые комочки ухитряются не заледенеть, устоять вопреки всем напастям.
Он представляет, будто птицы сидят на общей ветке, тесно прижавшись друг к другу, и именно эта сплоченность перед неведомой судьбою спасает от отчаяния и страха. Конечно, утро найдет под деревьями немало остывших, бездыханных тел, но большинство вытянет пронзительную ночь и с рассветом полетит, спасаясь от бескормицы, к городской свалке. Разбившись на небольшие отряды, птицы будут без роздыху шнырять по дорогам и дворам, отчаянно сражаясь за нелегкое право встретить теплое солнце, увидеть мягкую зелень, услышать лепет народившихся птенцов. Зимующим бойцам нужна не просто жизнь, им необходима победа, и ради нее они без слез и причитаний пожертвуют в мороз и голод тысячами собратьев; они не помянут павших, не поставят памятников, разве прокричат в сумерках, перед сном, волнующую и дерзкую песнь самоутверждения…
Наконец Петька обнаружен: с ватагою сорванцов он штурмует снежную крепость, слепленную старшеклассниками у самого выхода из парка. Филиппыч долго наблюдает за внуком, прежде чем велит ему идти домой.
— Почему не взяли крепость?
— У них там снежков полным-полно, а у нас мало, — оправдывается Петька. Он тяжело дышит, и шапка надета задом наперед. Щеки пылают: в нем жива еще отвага.
— Правильно, — соглашается Филиппыч. — Завтра возьми картонный ящик и, перед тем как атаковать, наделай побольше снежков. Ящик подтащи поближе к крепости, тогда они головы не подымут.
— Не подымут! — восхищается Петька. — Дед-деда, а давай сейчас попробуем?
— Сейчас поздно, ужинать пора. Да и устал ты. Чтобы метко бросать снежки, надо хорошенько выспаться. И кроме того, нужно придумать военную хитрость: без этого крепостей не берут.
— А какую хитрость?
— Сам думай, — усмехается Филиппыч.
— Знаю, — с ходу импровизирует Петька. — Надо поставить дымовую завесу…
Мальчик придумывает разные планы штурма крепости, нисколько не заботясь, осуществимы они или нет. Филиппычу приходится обстоятельно разбирать каждый план. Военные советы проходят у них в бурных спорах: Петька знает и про Суворова, и про Ганнибала, и про Чуйкова, в армии которого сражался сам Филиппыч. Петька ловит все на лету, а порассказать Филиппычу есть о чем: служено-переслужено двадцать семь календарных лет…
Больше всех про жизнь Филиппыча известно Петьке. Петька знает все в деталях, но не рассказывает об этом ни матери, ни отцу: чувствует, им неинтересно. Он понимает, что им неинтересны и его будни, а потому делится только с дедом. Дед умеет выслушать, не задавая лишних вопросов, во всем откроет неведомый смысл. Он не осудит, не поругает, но Петька сам поймет, что было плохого, и постарается не допускать ошибки.
Иногда Петька расспрашивает о своей бабке, жене Филиппыча, погибшей в авиационной катастрофе. Ему хочется знать как можно больше, ведь она тоже воевала — перевязывала раненых. Но дед почему-то больше вспоминает про то, какой она была до войны. По нему выходит, что даже Василиса Прекрасная не годилась бы ей в подметки. Лично он, Петька, на этот счет иного мнения, хотя и допускает, что фотография, какую бережет дед, очень неудачная.
Вместе с внуком Филиппыч смотрит кинофильмы и читает книги о войне. Война для него — особый период жизни. На фронте он встретил и потерял друзей, на фронте прошла его первая и последняя любовь, на фронте он приобрел мудрость, какую потом не поколебали ни годы, ни события. Все было в жизни. Были победы, после которых осталось чувство несмываемого позора. Были поражения, какие вспоминаются как самые блестящие триумфы…
Когда Петька еще сосал грудь и не реагировал на слова, к Филиппычу наезжал из соседнего поселка усатый человек. Они подолгу сидели рядом, пили чай и ни о чем не говорили, только, расставаясь, целовались, будто виделись в последний раз. Усатый всегда плакал, а Филиппыч не плакал, но после проводов неделю, а то и больше ходил совершенно молчаливый. Много позже, когда усатый помер, Петька узнал, что звали его Петр Ануфриевич Степанов. Был он ефрейтором в роте, которой командовал Филиппыч. В 1943 году близ Понырей роту смяли немецкие танки. Целые сутки не затихал бой. В живых остались только Филиппыч да Степанов. И то Филиппыч был тяжело ранен в грудь, а Степанова вообще вначале положили на телегу с мертвецами.
— Вот, Петька, какой ценой отстояли мы Родину, — говорит, вспоминая про это, Филиппыч. — Жизней не щадили, жалко, что жизнь там осталась и воскресить ее нет никакой силы…
Непонятные вздохи Филиппыча сочувствия у Петьки не вызывают. Впрочем, не вызывают сочувствия и у других. У отца, например.
— Подумаешь «герой»! Каждое поколение по-своему исполняет свой долг, — говорит отец, когда Филиппыч слишком упирает на свои заслуги.
— Долг осознать надо, — задумчиво возражает дед. — Для себя — это не долг, а для других у многих теперь — кишка тонка! Своего счастья люди не знают…
Петька недоумевает, о каком счастье говорит дед, но подозревает, о наградах: у деда два ордена и целых семь медалей.
Петька гордится дедом. Одного не понимает: отчего не каждый уважает деда, если он такой орденоносный. Ну, вот хотя бы этот прошлогодний случай.
Ездили они за земляникой. На поляне у березовой рощи набрали целых три стакана душистой ягоды. Потом по-походному обедали, запивая чаем из термоса. А потом дед вырезал свистульку, и Петька насвистывал сколько хотел. До остановки автобуса идти было далеко, сели у дороги — подождать попутной машины. Не заметили, как подошли какие-то парни. Увидели корзинку с земляникой: «Ты пенсионер, тебе делать нечего, пособирай еще. А нам на свадьбу надо. Все подарок невесте». Дед им сказал: «Если б попросили, поделился, а раз утащить вздумали, не получите!» Но они схватили корзинку и убежали. Дедушка смолчал, а он, Петька, заплакал. Ягоды не было жалко ни капельки, честное слово. Было жалко дедушку. Но дедушка будто бы и не расстроился:
— И чего плачешь? Думаешь, все такие? Это же бессовестные люди. Совесть потеряли и теперь, как звери: разве зверей научишь чему-нибудь путному?..
Правильно объяснил, конечно; звери не понимают, когда им говорят, но он, Петька, заревел еще пуще. Стало страшно: потеряешь совесть и уж тогда ни за что не поймешь человеческого слова…
Так и жил Филиппыч, и день ото дня дороже и ближе становился ему Петька. И не только потому, что отдавал он внуку все силы, доверял сокровенное, но и потому, что видел: падают семена в благодатную почву. Петька быстро постигал, что справедливо и что несправедливо, а если разобраться, открытие справедливости и есть главное в человеке.