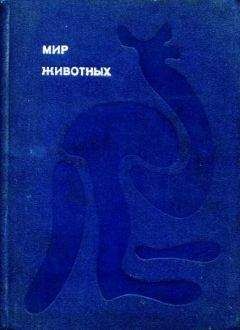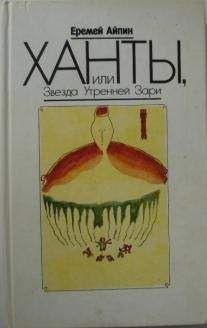Олег Коряков
Тайна притока Конды
В рабочей комнате моего брата на полках, в шкафах, на столе и даже на полу лежат кипы книг и свернутые в трубки географические карты. С этюдными зарисовками перемежаются альбомы с фотографиями, а в них снимки дремучей тайги чередуются со степными пейзажами, портреты ханты сменяются кадрами из жизни животных.
Свою жизнь брат посвятил изучению жизни животных и птиц. Он охотовед. Это вечный странник. Ему не сидится на месте. Он всё время в путешествиях, скитаниях, ходьбе по самым тёмным и глухим, неизведанным уголкам Урала и Сибири.
Его путешествия скопили ему своеобразную коллекцию самых различных предметов. В этой коллекции есть один предмет, который брат считает особенно дорогим и ценным. Это обыкновенный охотничий нож, сделанный каким-то неизвестным манси, простой кусок стали, отточенный и вделанный в деревянный брусок. Хранится он в ножне, вырезанной из берёзового полена.
— Почему, — спросил я однажды брата, — ты так дорожишь этой пустячной вещью?
— Так, память, — ответил он. — Давно было… Этот нож пережил со мной одну неприятную историю.
Брат не любит подробно рассказывать о своей работе, но тут я упросил его, и он рассказал эту «неприятную историю».
Река, обозначенная на карте пунктиром
Река Обь известна во всём мире. Её приток Иртыш знаком каждому советскому школьнику. Впадающую в Иртыш Конду знают уже не все. А о притоках Конды — северных реках Есс, Нюрух, Пурдан, Адем-Немы-Яган — слышали совсем немногие. На карте они бегут к Конде извилистыми голубыми змейками. Среди этих змеек извиваются этакие робкие чёрточки пунктира. Что они означают?
Это река Ух.
Люди слышали, что такая река есть, но никто не бывал там, никто этой реки не видел, никто не знал точно, как она течёт, и потому лишь предположительно занесли её на карту в виде неопределённой пунктирной линии.
В глухой, нетронутой чаще урмана таится эта река. Непроходимые таёжные болота обступили её со всех сторон, и лишь тропы диких зверей местами прорезают заросли болотного багульника. Для человека эти тропы недоступны, они непроходимы и подобны запутаннейшему лабиринту, довериться которому — значит, погибнуть.
Ух — священная река манси. По преданию, здесь издавна поселился какой-то лесной дух. Дух не любит, когда его беспокоят люди, кто бы ни были они. Рассказывают также, что где-то в этом районе мансийские шаманы запрятали свой знаменитый идол — «Золотую бабу».
Тогда — это было в 1936 году — я работал в Кондо-Сосьвинском боброво-соболином заповеднике. Короткие и неясные разговоры о реке Ух заинтересовали меня. К тому же, по слухам, она была очень богата бобрами, и бобры там были самого лучшего качества.
Я решил обследовать эту реку.
Ещё зимой я стал подыскивать себе проводника. Пускаться в тяжёлый неведомый путь одному было нельзя, просто не под силу. Мне необходим был спутник, компаньон, товарищ.
Скитаясь по тайге, перебираясь от одной юрты к другой, я предлагал знакомым и незнакомым манси пойти со мной. Услышав об Ухе, манси делали испуганные глаза и шептали:
— Нельзя, начальник. Там худое место.
И уговаривали:
— Не ходи, Борис. Шайтан сильный. Не ходи.
Никто из них не упоминал, что Ух — их святыня.
Просто они говорили: «худое место».
Я убеждал, просил, уговаривал, — всё было бесполезно.
Наконец мне посчастливилось. В юртах Тимка-пауль жил манси Илья Номин. Невысокого роста, лохматый, с большими, как у телёнка, глазами навыкате, он был неразговорчив и замкнут. Даже манси про него говорили, что Илья «тронут шайтаном». Говорили:
— Ненадёжный Илья человек.
Я махнул рукой — лишь бы согласился.
Номин, выслушав меня, долго молчал, потом что-то бормотал себе под нос и наконец сказал:
— Пойдём.
Мы условились с ним встретиться в средине мая на озере Есс-талях-тор, в верховьях речки Есс, чтобы оттуда двинуться на Ух.
В начале мая, нагрузив свой вещевой мешок сухарями, сахаром, солью, табаком, фото- и боеприпасами, я вышел из Шухтункурта. До Есс-талях-тора было больше ста километров.
Последнюю остановку перед озером я сделал в юрте Еман-курт, что значит «святая юрта». В ней жил старик — ханты Езин. Он был шаманом.
Езин накормил меня, пригласил заночевать, потом стал расспрашивать, куда идёт мой путь.
— Хочу Ух посмотреть…
— Ух?! — Полуслепые узкие глазёнки старика стали совсем-совсем маленькими и очень злыми.
Он задумался, поглаживая пальцами подбородок, из которого все волосы, по старому хантыйскому обычаю, были тщательно выщипаны. Потом, гневно гримасничая и морща дряблую желтую кожу, Езин потряс головой, покрытой редкими волосами.
— На Ух ходить не можно, — сказал он, — нельзя ходить. Пропадёшь. Всё равно пропадёшь. Шибко худое место. Шайтан сердиться будет.
— Ничего, старик, — попробовал я успокоить Езина. — Твои боги на меня не обидятся. А шайтана, ты же знаешь, я не боюсь.
Я улегся на лежанку и укрылся оленьими шкурами, а старый шаман еще долго бормотал какие-то страшные-слова, видимо, призывая лесных духов помочь ему остановить осквернителя священных мест.
— Запомни мое слово, начальник. Шибко худо тебе будет. Шаман знает богово, боги шибко тебя обижать будут. Ружьё твоё стрелять не будет. Ноги твои ходить не будут. И собака твоя пропадёт. Не ходи на Ух.
Ну, что ты с ним поделаешь, с этим упрямым полоумным стариком!?
Езин сердито повозился в углу юрты и вышел на улицу покормить мою лайку Грозного рыбой. Сердиться — сердись, а законы гостеприимства не забывай.
Вернувшись, он спросил:
— Дорогу знаешь? Кто поведёт тебя?
— Я иду с Ильёй Номиным.
Через несколько минут мы распрощались.
До Есс-талях-тора оставалось километров тридцать. Почти всё время я шёл по подснежной болотной воде, изредка пересекая заросшие сосняком и ельником сухие островки. Я спешил к озеру, чтобы там, остановившись, подсушиться и сварить пищу. Но пёс мой Грозный, обычно неутомимый, деятельный, энергичный, сегодня был почему-то вял и устало плёлся в стороне.
Лишь поздно вечером добрались мы до острова. Через сутки туда явился и Номин со своей лайкой Ворсиком.
Мы собирались с Ильёй ложиться спать, как вдруг совсем недалеко, метрах в ста от нас, раздался какой-то дикий нечленораздельный крик. Я вздрогнул и непроизвольно съёжился. Высокий дребезжащий звук входил в уши, как игла, и, достигнув предельной резкости, внезапно оборвался. Почти тотчас возник другой — такой же протяжный и дикий, но низкий, густой, тяжёлый. Он оборвался так же, как и первый.
Это не был голос человека. Но это кричал и не зверь.
Я сидел без движения. Илья тоже притих, испуганный, подавленный, дрожащий. В больших и светлых его глазах застыл страх. Собаки ощетинились, напряглись, но в нерешительности замерли на месте.
Взметнулись золотой игривой стайкой искры от костра, рассыпались и, потухая, медленно упали вниз. Мы подвинулись к огню. И вдруг снова из чёрной плотной тьмы, обступившей нас, раздался дребезжащий визгливый вопль:
— Гхрьа-а-а-а!
А за ним низкое и гулкое:
— У-у-у-ух!
Нужно было что-то сделать, предпринять, хоть слово громкое вымолвить, чтобы встряхнуться. Иначе, казалось, так и окаменеешь навек, сдавленный тоской и страхом. С усилием глотнув слюну, я прохрипел:
— Ничего, Илья, не трусь… Это зверь кричит.
Илья покачал головой. Он не верил. Я и сам не верил этому. Я знаю повадки зверей и знаю их голоса. Так не кричит ни одно из животных. Но кто же это?
Или — что?
Нужно было гнать от себя страх, и уже громко и упрямо я повторил:
— Зверь!
Потом я взял ружье и выстрелил в кричавшую тьму.
Больше в ту ночь вопль не повторялся, но заснул я лишь под утро. А Илья так и не сомкнул глаз.
Утром мы двинулись в путь — к верховьям Уха.
Путь наш лежал по топким моховым болотам, поросшим сосновым нюром — деревцами высотой в человеческий рост. Меж болот — кедровые острова и сосновые боры. У берегов болотных речушек лепится к земле посуше березняк и ельник. На десятки километров раскинулись заросли багульника, и над землёй висит дурманящий запах его белых цветов.
Мой Грозный ник всё больше. Он ничего не ел и слабел с каждым днём. Уже не поспевая за мной, он еле волочил ноги, но всё же — верный, преданный пёс! — тащился вперёд. Последние два дня своей жизни Грозный приходил к месту наших ночёвок лишь утром. Придет, ляжет и смотрит, все смотрит на меня затуманенными грустными глазами. Тащить его на себе я не мог: тяжело и бесполезно.