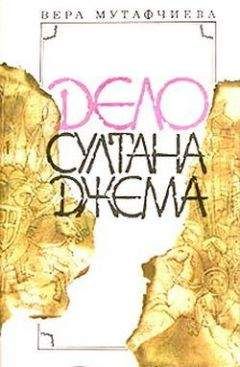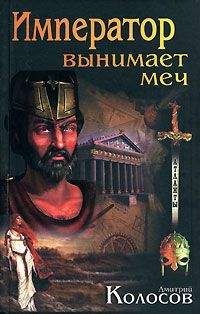Виктория Буяновская
Когда умолкнет тишина
Сегодня они опять останутся без сладкого. Сашка стояла посреди просторной кухни и, сглатывая невольно набежавшую слюну, любовалась пузатой банкой, стоявшей на высоченном старом буфете. Это была последняя банка смородинового джема, которую берегли к приезду дяди Гриши.
Раньше она терпеть не могла смородиновый джем — ее любимым был абрикосовый или персиковый. Но сейчас даже этот прошлогоднего запаса джем был пределом мечтаний. Сашка закрыла глаза и представила: вот она развязывает бечевку на горлышке банки, снимает жесткую бумагу, на которой маминой рукой написано: «Смородиновый джем. 1940 год», и запускает в мягкое, невероятно сладко пахнущее недро банки большую ложку, вынимает которую уже полную с горкой загустевшего ароматного джема и запихивает в свой широко раскрытый рот. Сашка, стоя с закрытыми глазами, расплылась в улыбке от удовольствия.
От замечательных мыслей отвлек раздавшийся скрип кухонной двери. Семилетний Валька, черноволосый мальчик с похудевшим за последние месяцы бледным лицом, сердито сверкая карими глазами, проговорил:
— Ну, долго тебя искать? Мама на урок зовет…
И тоже голодными глазами уставился на банку.
Сашка в другой раз огрызнулась бы, но сейчас ее мысли были слишком заняты джемом. И потом, было просто лень препираться. Все изголодавшееся детское население квартиры номер шестнадцать в доме на улице Троицкой по несколько раз в день пробиралось на кухню полюбоваться на заветную банку.
— Ужасно хочется джема, правда? — обратилась Сашка к брату.
— Ага, — с сожалением произнес он.
— Нельзя, — твердо сказала она, беря Вальку за руку, — скоро дядя Гриша приедет, тогда мама испечет пирог с джемом, съедим его и уедем в Москву.
Они зашагали по гулким просторным комнатам, уставленным старой мебелью. Из-за двери дальней комнаты раздавались звуки фортепьяно, — урок уже начался. Они побежали, держась за руки. У двери на мгновение остановились перевести дыхание, затем Сашка повернула массивную ручку, и они осторожно вошли в комнату. Старшая сестра — 14-летняя Нора, стоявшая у лакированного бока фортепьяно, бросила на них сердитый взгляд. Одиннадцатилетний Костик был слишком занят, — старательно раскрывая рот, он уже пел первые слова песни. Саша и Валя на цыпочках, чтобы не стучать каблуками, прошли к инструменту и, все еще думая о джеме и дяде Грише, подхватили слова песни.
Они ждали дядю Гришу, а иначе — Григория Вильгельмовича, маминого брата — уже месяц. Он должен был приехать за ними и увезти в Москву, — в Одессе было слишком опасно. Бои шли уже совсем близко. Говорили, что немцы рассчитывали захватить город не позднее августа, чтобы одесский порт мог служить им перевалочным пунктом для снабжения своих армий на юге.
Железнодорожные и морской вокзалы были переполнены беженцами. Ходили слухи, что путь по железной дороге вот-вот будет отрезан.
Семья уже была готова к отъезду — необходимые вещи давно упакованы. Мама говорила, что они сидят на чемоданах. Сашку смешило это выражение, потому что представляла она его так: на большом коричневом чемодане, положив красивые руки на колени, сидит мама, рядом, на свернутой в большой тюк перине — ее двоюродная сестра Софья Львовна, как всегда что-нибудь штопая. Строгая Нора сидит с безупречно прямой спиной на почти новом черном чемодане, Костик, уткнувшись в книжку, на большом саквояже, а Сашка с Валькой — на старых протертых по углам чемоданах, перевязанных поперек «живота» веревочкой, — потому что, как говорила Нора, хорошие вещи им доверять нельзя. И сидят они так круглыми сутками.
Взрослые говорили, что Одессу, по всей видимости, сдадут немцам. Сашка однажды подслушала разговор мамы и Софьи Львовны — кроткой женщины сорока с лишним лет, которая жила с ними, сколько Сашка себя помнила. Софья Львовна никогда не была замужем и никогда не сердилась. Это о многом говорило, потому что, как утверждала мама, они кого угодно могли вывести из себя. И маму, которая тоже была очень доброй и которую они все очень любили, им все же иногда удавалось вывести из себя.
В тот вечер мама и Софья Львовна сидели на кухне и чинили детскую одежду. Как всегда теперь, когда оставались одни, они говорили о войне.
— Больше всего я боюсь, — говорила мама, — что Гриша не успеет приехать, и немцы войдут в город.
— Нет, дорогая, этого не случится. Говорят маршал Буденный приказал не сдавать Одессу. На Привозе судачат, что оборонять город будет даже Черноморский флот. И потом, я просто уверена, что Григорий будет здесь со дня на день.
— Я знаю, он наверняка очень старается и волнуется за нас… Но это не так просто. Добраться из Москвы в Одессу сейчас почти невозможно. Ты сама слышала: немцы уже бомбят Москву, Ленинград держит оборону… На что тогда надеяться нам? Ты себе не представляешь, как я устала от этих постоянных мыслей! Еды нет, с питьевой водой перебои — немцы уже в Беляевке и перекрыли городской водопровод. Сегодня я видела, как люди прямо посреди улиц начали рыть колодцы! А у меня на руках четверо детей, которых нужно кормить… Посмотри, как они похудели. Иногда мне кажется, я просто сойду с ума от мысли, что мы отсюда не выберемся!
— Но, Маша, — убеждала Софья Львовна своим добрым, мягким голосом, — в конце концов, даже если немцы войдут в город, а мы не успеем уехать, они не сделают нам ничего плохого — ты же немка.
— Не забывай — мой муж еврей, и они больше поверят моей нынешней фамилии, чем немецкому произношению. А мы слышали, как они расправляются с евреями. Но за себя я не боюсь, — твердо произнесла мама, — больше всего я волнуюсь за детей. Это война, и если мы попадем к ним в руки…
Софья Львовна, отшатнувшись, схватилась рукой за обширную грудь:
— Что ты, Маша, не такие они звери!..
— Именно, звери! Жестокость солдат не знает предела. Я слышала рассказы дяди про войну 1914-го, и знаю, что мне он рассказывал далеко не все. От фашистов можно всего ожидать, особенно с их ненавистью к евреям. Я уверена, они не пожалеют и детей.
— Если они войдут в город, мы спрячем детей, — решительно сказала Софья Львовна.
— Спрячем? Куда? Уверена, среди наших соседей найдется немало желающих раскрыть наш обман.
— Нет, что ты! — с жаром сказала Софья Львовна. — Оскорблять нас, всячески отравлять нам жизнь они могут. Но решиться взять грех на душу о четырех невинных жизнях… На это они не пойдут! Ведь мы ничего плохого им не сделали…
— Сделали! Уже тем, что я — немка, мой муж — врач, бывший офицер царской армии. Даже то, что Илья честно выполнял свой долг, леча красноармейцев во время гражданской войны, не играет для них никакой роли…
Разговор на кухне еще продолжался, когда Сашка на цыпочках отошла от двери и направилась в свою комнату.
Все будет хорошо, она была в этом уверена. За девять лет своей жизни Сашка не помнила случая, когда взрослые не знали бы, что делать, а значит, они справятся с трудностями и теперь. А то, что у мамы такой озабоченный голос — так что ж, он у неё был таким же прошлой зимой, когда Валька болел воспалением лёгких. Но ведь и тогда все кончилось благополучно.
Единственной положительной стороной недостатка еды стало то, что теперь мама не поднимала их с постели как обычно в полвосьмого, а позволяла спать сколько угодно, потому что во сне голод почти не чувствуется. Сашку это радовало — она любила поспать и теперь с удовольствием пользовалась предоставленной возможностью.
От недоедания по ночам снились удивительные сны, чарующие и яркие, которые не хотелось покидать. Правда, чем дальше, тем чаще сны были про еду: Сашка ела в них жареную картошку с котлетами, объедалась пышными, с воздушным кремом, пирожными и тортами, плитками сливочного шоколада, пила какао со свежими, с хрустящей корочкой, булками… И происходило все это в каком-то удивительном и интересном мире. Уже проснувшись, Сашка долго неподвижно лежала в постели, скованная негой и волшебством снов, немного досадуя на то, что ела она не по-настоящему. Лениво глядела в потолок, где прямоугольниками лежал солнечный свет, и слушала звуки дома: негромкое тиканье часов, скрип открываемых дверей. Потом мимо комнаты проходила мама, — Сашка всегда узнавала ее шаги. В дальней комнате вдруг звякали клавиши пианино — наверное, Софья Львовна нечаянно задела, вытирая пыль. Раздавалось бряцание ковша, плеск воды в ванной — это Валька умывается, он всегда встает раньше нее…
Когда на мгновение звуки в доме замирали, Сашка думала: «Вот она, тишина», — и слушала ее. А потом оказывалось, что и это не тишина — множество приглушенных звуков доносилось с улицы: высокие тополя за окнами, качаясь от теплого ветра, поскрипывали и звучно шелестели листвой, тонко кричали стрижи, раздавался стук колес катящейся тележки, далекий лай собак. «Вот бы услышать настоящую тишину, — лениво думала Сашка. — Наверное, это невозможно, потому что какие-то звуки, даже очень тихие, есть всегда…» Тут Сашка зажмуривалась и пыталась представить настоящую тишину. Но звуки упорно лезли в уши. Тогда она затыкала их пальцами, — но от пальцев в ушах становилось еще более шумно. Тогда она снова принималась смотреть в потолок.