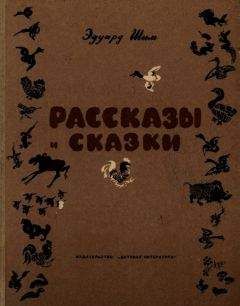Мальчишки, собравшись кучкой, дергают ржаные стебли, — со скрипом вытягивается из трубки бледно-зеленое колено, у него мягкий, с солодовым привкусом кончик, и мальчишки, причмокивая, жуют быстро, как зайцы.
А девчонки наши успели уже далеко уйти. Молчком, тишком прочесали они край поля, и теперь их цветные платьишки мелькают вдали, на опушке березняка.
— На мое вчерашнее место бегут, — говорит Веня Забелкин. — Во, бабы! Все оберут!
Главный среди мальчишек, Шурка Легошин, молчаливый, сухощаво-жилистый, от загара весь в шоколадных и лиловых пятнах, сосредоточенно чешет одной ногой другую.
— Ну да, — говорит он презрительно. — Еще чего! — и, не торопясь, двигается к лесу, в середине мальчишеской ватаги.
В перелеске плещет, струится под ветром плакучая березовая листва; плещутся, зыбко скользят солнечные пятна — по высокой с проплешинами траве, по кустам шиповника и ольхи, по березовым стволам, таким сияюще белым, будто их меловой побелкой обрызгали. И впрямь — меловая пыльца остается на ладони, когда дотронешься до коры; как мелованная бумага, поскрипывают в пальцах тонкие, глянцевые, закрутившиеся в трубочку слои бересты…
Девчонки сидят на горушке и, нагнувшись, что-то быстро, торопливо собирают. Неужели грибы? Да нет… Это они землянику берут, земляника уже поспела на песчаном бугре, на солнцепеке, возле источенных муравьями пней! И я тоже сажусь на горячий пенек, выглядываю, где закраснеется, поблазнит из-под листа спелая ягода. Если приглядеться, то ягод уже порядочно, и есть совсем переспевшие, отдающие в черноту; сорвешь одну такую ягоду, и руки долго будут пахнуть земляникой.
Я приглядываюсь и замечаю еще кое-что. Вон там, в сырой низинке, в сумраке, цветет медуница, весенний цветок, и еще держатся, еще не опали с мохнатого стебля ее розовые, лиловые, синие колокольчики; вот тут, на пригорке, в разгаре красное лето со спелой земляникой, с ромашками, с растрепанными головками дикого клевера; а там, на самом припеке, уже обозначилась осень, там уже трава обсеменилась, пожухла, и лысые одуванчики пускают по ветру последний пух. И весна, и лето, и осень встретились тут в лесу в этот июньский полдень. И я думаю, как смешно мы стараемся делить времена года по календарю, по клеточкам дней, и ругаемся на свой календарь, что он слишком часто обманывает, а он — не виноват. Времена года неделимы, как неделим человеческий возраст или человеческие чувства; рядом с весельем — грусть, рядом с твоей старостью — твоя молодость…
Я собрал полную горсть земляники, хотел было опрокинуть в рот — да вдруг вспомнил, как мы ели эту землянику почти четверть века назад, в детском доме. Было тогда голодно, в те военные годы, и для нас, малолетних, чувство голода сделалось постоянным, привычным. Но мы все-таки с ним боролись, мы обманывали его, мы придумывали себе удивительные кушанья. Мы выскребали мякиш из темной, вязкой хлебной горбушки, наполняли ее вареной картошкой из супа, и это был «пирог»; мы ели весной крапиву, жарили пестышки на костре, а летом, когда поспевала земляника, мы горсть ягод заворачивали в листья малины, в шершавые, седые с изнанки листья, и так ели, и это называлось «пирожное».
И сейчас я оглянулся, нашел куст малины, сорвал несколько молодых листьев. Ссыпал в них землянику, завернул и съел вместе с листьями. Нет, это было не так уж безвкусно; вполне приличное получилось пирожное… Я подумал, не показать ли этот способ ребятишкам, но, поразмыслив, все-таки отказался — нет, не стоит. Не поймут они вкуса в моем кушанье. И, наверное, хорошо, что не поймут… Усмехнулся я и пошел догонять их, прислушиваясь к хрусту валежника, к беззаботным голосам, доносившимся из-за кустов.
По березняку, потом сквозь непролазные заросли черемухи, потом через просеку с мачтами высоковольтной линии, — все дальше и дальше уходили мы от деревни, а грибов не попадалось. И уже приустали самые младшие ребятишки, и девчонки перестали аукаться, шли стайкой, и Веня Забелкин, весь потный, обтирая с толстых своих щек прилипшую паутину, все поглядывал на главаря Шурку — не пора ли обратно? Но как пойдешь обратно, если каждый пригорочек, каждая поляна все-таки манит, обещает, и все кажется — вон под теми елочками уж непременно дожидается тебя гриб, молоденький крепыш в круглой шляпе желудевого цвета, надетой набекрень?
И мы еще по двум перелескам прошли, обогнули клеверное поле и вступили в сосновый бор. И тут, едва мы вошли, прохладная тишина и сумрак обняли нас; темной и сырою была земля с редкими фонтанчиками папоротников, и черны были полусгнившие пни и коряги-выворотни, и черно, мокро отблескивали понизу голые сосновые стволы. И только впереди, в проемах синей тяжелой хвои, редко сияли косые столбы солнечного света — вроде бы чуть пыльные и радужно переливчатые, как в грозовой туче. И тут все мы примолкли окончательно, словно нельзя было говорить, невозможно и страшно разбить словом эту тишину, этот великолепный покой… А когда я останавливался, затаив дыхание, было слышно, как вверху с легким щелчком отваливалась чешуйка сосновой коры; я поднимал голову — крутясь, янтарно-розовый лепесток падал вниз, вспыхивал в солнечном луче, живой и порхающий, как бабочка…
А потом ребятишки мои, шедшие впереди, вдруг закричали разом и побежали, побежали, по-козлиному сигая через пни и валежник, — они что-то увидели там, впереди; я тоже заспешил, прибавил шагу. Высветилось за темными стволами, забелело, сосновый бор неожиданно кончился, ровной границей, будто отрезанный, — и открылось впереди озеро. Ах, как оно сразу открылось взгляду — с пространством голубовато-льдистой воды, чуть сморщенной ветром на середине; с извилистой полосой красного песчаного берега; с перепутанными, поседевшими гривами камышей; с молоденькой березой-двойняшкой на обрыве, которая вся струилась, летела навстречу ветру, отбросивши далеко назад блестящие свои зеленые пряди, — словно бы тоже бежала, бежала к воде…
Тотчас были забыты все грибы и ягоды; мальчишки на бегу скидывали рубахи, майки, трусы; заплескалась, забурлила вода под обрывом, и через минуту никого не осталось на берегу, кроме самой махонькой девчонки, пятилетней Тошки Копыловой; у нее, у Тошки, еще не зажила сломанная рука в гипсовой повязке, купаться нельзя, и Тошка приплясывает на песке, бьет по воде босыми ногами, взвизгивает и высоко задирает от брызг прибинтованную к дощечке руку…
После долгого купанья, такого, что пробирает невольный озноб, я лежу на берегу, в траве. Слышно, как чмокает вода в камышах, как переговариваются на обрыве ребятишки, ругают Веню Забелкина — все убеждены, что он не показал грибное место, утаил. Затем Шурка Легошин говорит: «Ладно, пойдем назад — отыщем! С кем хошь спорю — отыщем!»… А солнце уже незаметно сваливается к закату, небо холодеет, прояснивается, и с удивительной резкостью видны в нем неподвижные, блистающие ледяной пылью облака. За озером, за лесом проходит электричка, отчетливо достигает до нас тупой, чугунный перестук ее колес, внезапный гудок, низкий, даже как будто шероховатый; и эти звуки плывут над озером, слабеют, но все не исчезают… А я думаю, отчего мне жалко, что кончается этот июньский день? Было же много, много прекрасных дней; полжизни прожито, перевидано всякое, и уж пора бы привыкнуть, успокоиться, — а мне жаль. Так жаль, словно этот день особенный, словно что-то важное случилось, словно не было прежде таких дней, и уже не будет никогда…
А вечером, возвращаясь в деревню, я встречаю Шурку Легошина; он ведет меня на «пятачок» — вытоптанную, убитую сапогами площадку, где обычно гоняют в футбол да танцуют вечерами под гармошку, — и рассказывает, что здесь, на краю площадки, среди бурой, пропыленной, в пятнах мазута травы, на каменной этой, мертвой земле наши ребятишки, когда шли домой, отыскали целую семью грибов-колосовиков.
Четвертый час утра, деревня спит еще… Пустынна улица. В сереньком, процеженном деревьями свете почти не видны серые избы, серые дощатые заборы, дорога в серой траве. Будто мутноватой озерной водой все залито, и тихо, как под водою, ни огня, ни голоса…
Лишь на дворе у Гусева всю ночь дрожало, качалось от ветра оранжевое электрическое солнце, пятисотсвечовая лампа величиной с четвертную бутыль. Она и сейчас горит. Видно, как перемешивается и всплывает над нею сырой воздух; привлеченные светом, летят к ней белесые ночные мотыльки, длинноногое комарье; касаются раскаленного стекла и словно испаряются мгновенно: щелчок, клубочек пара, и сыплется вниз пепел…
Отворилась темная, басом скрипнувшая калитка, вышел на улицу Гусев. Остановился, озирая утренний мир.
Велик Гусев ростом, тяжел, объемист, и — великолепен все-таки, несмотря на преклонные лета, на многие болезни, на обрюзгшее, как бы потекшее книзу лицо. Набекрень соломенная шляпа с дырочками. Рубаха нараспашку. Громадный живот нависает над шелковыми, в крупную полосу, пижамными брюками. Ноги в кожаных шлепанцах невероятного размера, могучие ноги, слоновьи ступни. Только уже больные. Им в помощь взята суковатая неошкуренная палка, на полвершка протыкающая землю.