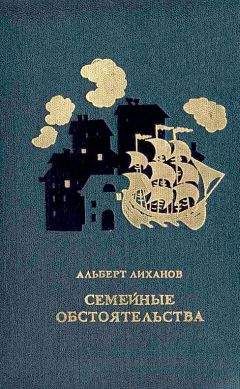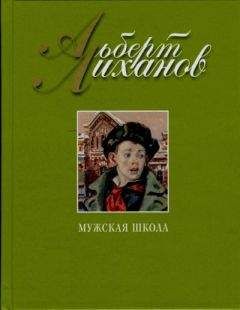— А так! Общее собрание — это наш суд.
Суд! И тут суд! Везде кара, везде наказание, глупости все это, никуда не сбежишь!
Сережа представляет огромный зал, полный народу. Незнакомые, чужие парни размахивают кулаками, кричат хором: «Выгнать! Позор!»
Позор! Конечно, позор! И никуда от него не деться. Вот пойдут они с Васькой к директору. Тот спросит: «Работал?» — «Работал!» — ответит Сережа. «Давай трудовую книжку. Характеристика где?» Трудовая книжка — вот она. А характеристики нет.
Обещали позже прислать, если понадобится. Долго было писать, а бабушка торопила: надо уезжать, там конкурс, редкое училище, и узнали только что…
Бабушка говорила: молчи. Врать я сама буду, старая грешница. Но вот и ему пора настала врать. По уговору он должен отдать только свидетельство из школы. Будто лето просто гулял, как всякий школьник. Сейчас поступает.
Врать. Надо врать.
А вообще-то в чем дело? Почему там, дома, врала бабушка, а не он? Почему она его спасала, а он стоял как истукан? Ведь виноват он, а не бабушка. Буфет взламывал он, а не она…
Сережа потеет, покрывается пятнами, Колька тащит его в столовую, ругает себя:
— Я, дурак, гляжу — ты зеленеешь, давай рубай, а то без жратвы-то куда?
Сережа вяло тыкает вилкой в котлету, есть ему не хочется. Он Кольку разглядывает, не узнает его. Как он переменился! Тогда — год с лишним уже! — был деревенский парнишка, курил солидно и держал себя с показным достоинством. Перед Сережей, наверное, рисовался… А теперь блестит белыми зубами, говорит просто, без важности. Хорошо бы с ним подружиться — тогда не получилось, авария, потом, зимой, не до этого. Может, теперь…
— Здорово, — спрашивает Сережа, — влетело тебе за трактор?
— Еще как, — вздыхает Колька, — отец драл да драл, драл да драл! Его самого-то чуть прав не лишили…
— Как это вы про велики не забыли? — удивляется, задумчиво улыбаясь, Сережа, и рассказывает про мамин голос в поезде.
— Мы твою маманю завсегда слушали, — говорит Колька. — По ее голосу утром в школу бежишь. Когда мороз, слушаешь, какую температуру объявит, и думаешь, теть Ань, ну давай, накинь по-родственному градусов пять!
Сережа смеется. Про маму ему думать всегда хорошо. Только вот… Зачем она обманула? Разве можно обмануть для пользы дела? Для справедливости? Вот он лжет сейчас, весь изоврался, обманывает, так ведь это для того, чтобы скрыть подлое… Благородного обмана не бывает.
Спать они ложатся вдвоем в большой комнате. Конец августа, многие еще не приехали, у некоторых практика — Колька же практикуется здесь, в городе, на большом заводе.
Они тушат свет, но уснуть Сережа не может, возится на новом месте, скрипит пружинами.
— Ты не врешь? — спрашивает неожиданно Колька. — Не врешь, что учиться приехал? Ты же на летчика хотел?
Сережа молчит.
— Хотел, да расхотел, — отвечает тяжело. И вдруг спрашивает Кольку: — А ты про отца моего знал?
— Слыхал, — отвечает Колька, — он же разбился…
— Кто говорит? — напряженно спрашивает Сережа.
— Да все в деревне. И отец.
Сережа облегченно вздыхает. Он распутывает свои мысли, как узел.
Отца нет, думает он, вернее, есть только Авдеев, но про него — про того, придуманного — хорошо говорят и помнят по-хорошему. Значит, выдуманный мамой, несуществующий человек, все-таки существует? И пусть Сережа уничтожил в себе эту легенду, рассыпал как песочный домик, — отец-летчик живет собственной жизнью в других людях, независимо от Сережи… Придуманный мамой отец продолжает быть, и, чтобы его уничтожить, надо ходить от человека к человеку и всем объяснять: это неправда, летчика-героя нет, а есть просто Авдеев…
Сережа вздыхает, ворочается, не может уснуть, хотя Колька уже храпит, как тот трактор «Беларусь», который он хряпнул о березу.
Значит, все-таки может быть благородный обман? И может быть подлый?
Между прочим, думает он, бабушка обманывает сейчас для него. Ведь если бы с ней самой такое случилось, небось давно призналась.
Сережа вспоминает тетю Нину, Олега Андреевича. Представляет: вот известно про буфет. Неужели же не догадаются, что есть тут тайная связь? Ограбили буфет, и он стремительно уехал. Нашел неповторимое училище. Конечно, они идут к бабушке. Допытываются, в чем дело.
Бабушка не скажет. Будет плакать, будет врать, будет мучиться, но не скажет, потому что Сережа ее внук.
Но почему же тогда он не думает, что она его бабушка? Что не должна она врать за него, его выгораживать, принимать на себя всю эту тяжесть лжи, вранья, обмана.
Сереже душно, он сбрасывает скомканное одеяло, переворачивает подушку, но все равно жарко. Он весь извелся, и чем больше думает, тем становится тяжелее.
Он вспоминает Доронина. Тогда ему показалось обидным — летчик прикрикнул на него, пристыдил, сказал: разве можно так распускаться.
И действительно: разве можно?
Разве можно прятаться за плечи взрослых, наделав бог знает что? Разве можно подставлять под удар бабушку, скрывшись в кусты? Разве можно лгать?
Сережа садится. За окном светает.
Мамин обман простителен. Он стал жестоким только после ее смерти. Если бы она была жива, обман этот существовал всегда. И он не мог бы осудить его, не зная о нем.
Его обман другой. Его нельзя таить. Этот обман не может существовать всегда. Потому что, обманув раз, можно обмануть и два. Можно сделать всю жизнь сплошным обманом.
Врать про отца, выдуманного героя. Врать про себя, про свою порядочность и честность.
Сережа встает, натягивает брюки, вытаскивает из-под кровати рюкзак.
Пишет тупым карандашом на куске желтой бумаги:
«Колька! Прощай! Я должен вернуться!»
10
Поезд тянется еле-еле. Стоит у каждого столба. И часы! Часы у всех остановились. Через каждые десять минут Сережа спрашивает:
— Скажите, пожалуйста, а сколько сейчас?
— Мальчик! — возмущаются пассажиры. — Ты уже надоел!
Надоел! Он и сам себе надоел.
Черный забор, грязно-коричневые крыши складов, серый вокзал раскручивается в обратную сторону, а дальние дымы ТЭЦ, коробки домов, старое кладбище едут вперед. Обратно крутится невероятная пластинка, на которой вместо музыки записана жизнь. Но пластинку назад крутиться не заставишь. Жизнь — можно, если очень захотеть.
Если решиться.
Первым он выпрыгивает из вагона. Несется на привокзальную площадь, к троллейбусной остановке.
Он влезает в троллейбус, радостно поглядывает на знакомые улицы. Он едет к Олегу Андреевичу.
Пусть бабушка узнает потом. Пусть не волнуется понапрасну.
В милиции он находит нужную дверь, открывает ее. Олег Андреевич поднимает брови, удивляясь, улыбается, говорит:
— Ну и шутница твоя бабушка. Говорит, уехал.
— Не шутница, — отвечает Сережа, — я уже приехал, — и добавляет: — Олег Андреевич, буфет я ограбил. — Сережа рассказывает подробно, как было дело, молчит только про Литературу — здесь, в милиции, это значения не имеет, и Олег Андреевич тускнеет, задумывается, смотрит в окно, стучит ручкой по столу.
— Тогда все понятно, — произносит он наконец, — и отъезд вы с бабушкой придумали, чтобы подальше быть?
Что скрывать — Сережа кивает.
— Дела-а, — задумчиво говорит Олег Андреевич и вдруг спрашивает: — Зачем же ты вернулся? Зачем рассказываешь мне? Ведь если бы ты не рассказал! У тебя полное алиби! Кража произошла вчера… Хотя, постой-ка… Вчера тебя действительно не было. Каким поездом ты уехал? Билет сохранился? А сколько ты денег взял?.. Ну дела! — поражается Олег Андреевич, берет телефонную трубку, крутит диск, говорит:
— Семенов! Срочно!
Приходит пожилой милиционер, толстый и растрепанный, с печальными глазами, поглядывает подозрительно на Сережу, а Олег Андреевич ему объясняет.
— Вот грабитель явился. С повинной. Но он утверждает, что взял двадцать девять шестьдесят. А не шестьсот…
Сережа даже подпрыгивает:
— Какие шестьсот!
— Вот такие, — отвечает Олег Андреевич. — Буфетчица заявила, что ограбление было вчера и что взяли шестьсот.
Олег Андреевич и пожилой дядька окутываются черным дымом, Сережа чувствует, что он погиб, причем погиб каким-то странным, невероятным образом, о котором не думал, не предполагал.
— Зачем тебе столько? — спрашивает пожилой милиционер. — Мотоцикл хотел купить?
— Что вы, издеваетесь! — кричит Сережа. — Мне надо было триста. Чтобы отдать им, поняли! Чтоб не унижаться! Вместе с помазком! Со штанами!
Сережу колотит, ему не хватает воздуха! «Боже мой, — думает он, — зачем я бросил в реку эти деньги? Я бы им показал сейчас, сколько там было. Впрочем…» Он неожиданно сникает. Ведь он хотел взять триста. Кому какое дело, что там оказалось мало. Он же все равно украл. Много или мало, какая разница!