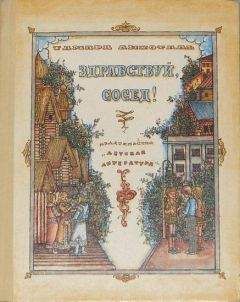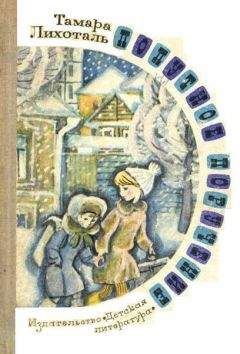Купец подозвал сына, сказал гостям:
— Наследник, — и стал рассказывать, что вот ещё немного подрастёт сын и вместе с ним будет ездить за мехами. Ездить приходится далеко, в глухие лесные края, куда и дорог-то настоящих нет. Но зато много зверя бьют там охотники, и мех — вот он до чего хорош.
Немцы кивали головами, смешно выговаривая непривычные слова, соглашались:
— Карош мех, карош! — А потом наполовину по-русски, наполовину по-своему лопотали, поглядывая на Василька: — Дер кнабе. Сын. Карошо!
Ещё не весь мех был уложен в бочки, но отец Василька сказал, что уже поздно и пора закрывать лавку. Остальное догрузят завтра. Немцы опять закивали головами. Удивлялись, до чего долог здесь в Новгороде, на севере, летний день. Иной раз, вот как сейчас, и забудешь, что уже наступил вечер. Да и ночью так светло — не уснёшь. Тут заговорил ещё один гость, до этого времени молча сидевший в стороне. Это был италийский купец. Он тоже немного умел говорить по-русски. Ему уже не раз приходилось бывать на Руси, сказал он. Но раньше он доходил только до Киева. А вот в Новгород приплыл впервые. Он, как и немцы, удивлялся светлым северным ночам. Говорил, у них в Италии ночи тёмные, как чёрный бархат. И звёзды смотрятся по-другому. И деревья иные, и дома не из дерева, как в Новгороде, а из камня. Хвалил Новгород — красивый и чистый город. Улицы вымощены — не то, что в иных европейских столицах, где едва выйдешь со двора, потонешь по колено в грязи. Италиец ещё что-то продолжал рассказывать про города и земли, где случалось ему побывать, но Вишена и Борис, попрощавшись, вышли из лавки. Василёк же остался дожидаться отца, чтобы вместе с ним идти домой.
Торг уже опустел. Только сторожа ходили по площади и поглядывали, не забрался ли вор в какой-нибудь церковный подвал, где хранят свои товары купцы.
На мосту тоже было пусто, и, наверное, поэтому он показался теперь Вишене гораздо более длинным. Сверху висело белёсое небо, а внизу свинцово темнела вода.
Борис, шагавший рядом с Вишеной, тяжело вздохнул. «Наверное, подумал о том, что попадёт дома», — догадался Вишена и тоже вздохнул. Вспомнился ему весь сегодняшний день, все неприятности. И учителя в школе Вишена разгневал, и писало позабыл вынуть, так и отдал его Васильку вместе с чехольчиком. Теперь пожалел он и писало и чехольчик. Правда, весёлая птица-свистулька была, вот она, у него в руке. Вишена разжал пальцы, поглядел на птичку. Всё-таки славная эта птичка-невеличка, голосистый соловей с дырочкой на спине и горошиной внутри. Вишена поднёс птичку к губам, и она заливисто засвистела. Наверное, Алёна и услышала этот свист. Когда Вишена подходил к дому, Алёна выбежала на улицу и закричала:
— Вишена! Вишена! Это ты? — Голос у неё был радостный.
Вишена сказал:
— Смотри, какая у меня птичка. Хочешь посвистеть?
Но Алёна не стала свистеть, даже не глянула на птичку, а смотрела на Вишену, словно видела его впервые.
— Это ты? — повторила она. — Живой! Беги скорей домой. Мать твоя все глаза выплакала. Сказали, какой-то отрок утонул сегодня в Волхове.
Едва Вишена толкнул калитку, с крыльца сбежала мать:
— Сыночек! Ненаглядный мой! Живой! Сберегла тебя пресвятая богородица! Вызволила из беды, вынула из воды! — и кинулась обнимать Вишену.
— Да не тонул я вовсе! Мы на торг ходили.
Тут мать перестала обнимать Вишену и запричитала:
— Что же это ты, окаянный, делаешь? Я все глаза проплакала, душой изболелась, а ты… — и, продолжая громко ругать Вишену, отвесила ему несколько тумаков, а потом, увидев у него в руке птичку-свистульку, схватила её и в сердцах закинула в росшие на огороде лопухи. Да ещё пригрозила напоследок: — Ты у меня пореви! Вот ужо воротится отец. Он тебе задаст!
Так кончился для новгородского мальчика Вишены этот долгий летний день.
12. Стоя усне, а лба не растепе
Рассказ шестой
Сегодня, как и всегда по воскресеньям, отец Илларион повёл ребят в Софийский собор слушать утреннюю службу.
Высоко возносится София над городом своими шестью куполами. Подойдёшь к ней близко, удивишься: громадный каменный храм стоит на земле легко, будто сам тянется ввысь к небу.
Внутри горят множеством огней светильники, празднично сияют золотые и серебряные кресты, сосуды, одеяния священников. Так торжественно здесь, что, входя, все невольно снимают шапки, чинно становятся друг возле друга, говорят вполголоса.
Бояре в нарядных кафтанах важно проходят через толпу, не спеша поднимаются по витой, как домик улитки, лестнице на полати — широкие галереи, расположенные на втором этаже. Внизу же, где молится простой народ, тесно. Ребята кое-как протиснулись вперёд, встали друг за дружкой.
Сначала священник читал молитву, потом началось пение. Слова были ребятам непонятные. Стоять и слушать было скучно. Вишена от нечего делать разглядывал стену. На ней красками написан старик с густой бородой в долгополом кафтане. Но это если глядеть издали. Тогда всё увидишь: и суровое худое лицо старика, и его длинную высокую фигуру. Но Вишена стоит у самой стены. И как ни вскидывает он голову, ему не видно ни лица старика, ни бороды, только тощие босые ноги да край его голубой одежды. А внизу кто-то нацарапал на стене буквы. Царапал, наверное, таким же писалом, как и то, что висит на поясе у Вишены. По-видимому, он думал, что в письменном виде его молитва дойдёт до бога вернее, чем из уст. Вишена пригляделся и разобрал надпись: «Помоги, господи, рабу твоему». Надпись шла косо по стене, сползая вниз. Тот, кто писал, был неважным грамотеем. Имени своего он не написал. Считал, верно, что бог догадается, кто и о чём его просит. Зато другой кто-то рядом нацарапал не только своё имя, но и адрес. Правда, обращался он не к богу с молитвой, а к людям с очень даже земным предложением. Он сообщал, что продаёт дом, и улицу назвал, где живёт: «Редятина, а спросить Гаврилу». Этот, наверное, считал, что не один богомолец, стоя тут, прочитает его объявление о продаже дома и таким образом скорей сыщется покупатель. А третий и вовсе… Наверное, он был порядочным шутником. Сообщал он о себе вот что: «Якиме стоя усне, а лба о камень не растепе». Стоял, значит, и уснул вместо того, чтобы разбивать в поклонах лоб о камень. Вот тебе и «не растепе». Давясь от смеха, Вишена толкнул Бориса и показал ему на стену. Но Борис не понял, что показывает ему Вишена. Поглазел-поглазел и сам толкнул Вишену. Вишена тоже не остался в долгу. Отец Илларион хоть и далеко стоял, но заметил их возню, погрозил. Пришлось обоим стать смирно.
Когда отец Илларион отвернулся, Вишена потихоньку достал писало и тоже начал царапать на стене надпись. Нет, он не обращался с просьбой к богу и не сообщал о том, что хочет что-то продать. Он выцарапывал рядом с шутником Якимом и своё имя. Но дописать ему не пришлось. Вдруг раздался громкий — на всю церковь — визг. Визжала и дёргала плечами стоявшая впереди Василька девчонка. Вишена сразу догадался, в чём дело. И Алёна тоже догадалась. Василёк ещё утром поймал майского жука, засунул его в чехольчик для писала — тот самый, который выменял у Вишены, — а потом позабыл про него. А вот теперь вытащил и… Мальчишки всегда что-нибудь такое придумывают. Например, Пеночкин — самый озорной мальчишка в Ленином классе — недавно принёс кузнечика, посадил его на парту. Кузнечик как прыгнет прямо на сидевшую впереди Натку. Нинель Викторовна долго потом отчитывала Пеночкина.
Отец Илларион тоже, конечно, рассердился. Только он никого не отчитывал. Протолкавшись сквозь народ к своим воспитанникам, он не стал доискиваться, кто виноват. А чтобы неповадно было озорникам баловаться и визжать в божьем храме, начал раздавать подзатыльники — и Вишене, и Борису, и той девчонке, что подняла визг, и всем прочим, кто попался под руку. А Василёк тихонько стоял в стороне, и на лице его было подобающее месту смирение.
13. «Посторонним вход воспрещён!»
Глава, из которой ты узнаешь, что произошло из-за Пеночкина
— Лена-мена-перемена! — закричал Пеночкин.
Просто беда с этим Пеночкиным! Лена с Андрюшей меняются марками. Что в этом плохого? Они дружат, вместе ходят из школы. А Пеночкин… Это он нарисовал на асфальте, где начерчены классики, сердце, пронзённое стрелой, и написал рядом: «Вишня плюс Лена!» Вишня — это Андрюша Вишняков. «Вишня-Черешня!» — дразнит его Пеночкин. Другие ребята тоже называют Вишней. Вообще-то в этом нет ничего обидного. И Лена и Натка тоже иногда говорят: «Вишенка, выйдешь после обеда в лапту играть?» Или: «Вишенка, можно я на твоём велике прокачусь?»
Сегодня, пока не было Андрюши, а были только Лена с Наткой, Пеночкин не задирался. Нарвал у забора, где растёт репейник, колючек, слепил их комом и прижал к животу. Прошёлся, нарочно выпятив пузо, а серый ком, словно какой-то зверёк коготками, уцепился за рубашку да так и повис на животе у Пеночкина. Смешно! Пеночкин всегда что-нибудь такое выдумывает. «Ты, наверное, будешь клоуном, Пеночкин!» — говорит Нинель Викторовна. Нинель Викторовна, когда сердится на кого-нибудь, называет по фамилии. Если всё идёт хорошо, говорит весело и просто: «Ты, Андрюша, уже придумал пример? Правильно! Молодец! Кто ещё хочет ответить? Лена? Пожалуйста!» Ну, а если в классе шум или какой-нибудь беспорядок, голос у Нинель Викторовны совсем другой: «Кто это нам мешает работать? Ну конечно, Пеночкин!», «Перестань жевать промокашку, Пеночкин!», «Сядь как следует, Пеночкин!» Все так привыкли, что и на перемене зовут Пеночкина Пеночкин, и даже на улице — Пеночкин. Пеночкин не обижается ни когда зовут его по фамилии, ни когда смеются над его проделками. Вот и сегодня Лена с Наткой смеялись, а он — ничего. Потом вышел Андрюша. Лена отдала ему марки. Андрюша обрадовался: