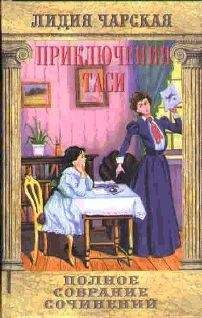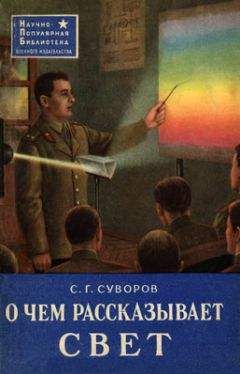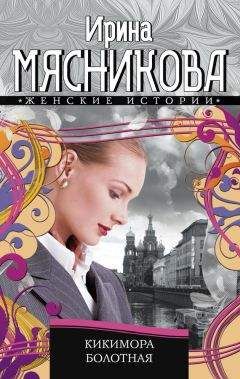Девочки недоумевающе поглядывали на Стогунцеву, но на все вопросы — в чем заключалась ее выдумка — Тася не отвечала ни слова.
Большой колокол находился в темной прихожей пансиона, в углу за верхними платьями пансионерок, и если влезть на вешалку, то можно было рукою достать до его железного языка. Тася все это обдумала всесторонне и в тот же вечер решила действовать. Когда девочки улеглись спать, она из дортуара босиком пробралась в переднюю. В руках Тася держала полотенце. Добравшись до места, где висел колокол, Тася вскарабкалась на трюмо, стоявшее в передней, оттуда на вешалку и живо принялась за работу. Язык колокола был тщательно обернут полотенцем, и Тася снова вернулась в дортуар.
Было ровно семь часов утра, когда заспанная глухая пансионская кухарка Мавра пришла в прихожую и стала дергать за веревку колокола.
Колокол не звонил. Но так как Мавра никогда, по причине своей глухоты, не слышала звона, то и теперь, дернув несколько раз за веревку, снова ушла к себе в кухню, уверенная в том, что выполнила возложенную на нее обязанность.
На больших столовых часах пробило восемь. Необычная тишина царила в пансионе. Пробило половина девятого и, наконец, девять. Прежнее невозмутимое спокойствие.
В начале десятого часа к старшим пансионеркам должен был прийти учитель немецкого, к младшим — священник, настоятель городского собора, преподававший девочкам Закон Божий.
Учитель и священник, впущенные Маврой, вошли в зал и были удивлены необычной тишиной.
— Можно подумать, что пансион вымер! — произнес учитель Штром, худой, длинноволосый немец.
— Н-да, подозрительно что-то! — согласился батюшка, отец Илларион.
— Странно! Слушай, голубушка, — обратился Штром к Мавре, — что у вас, все благополучно?
Та радостно закивала головою, не расслышав того, что говорит учитель.
— С лучком, батюшка, с лучком. Я завсегда с лучком котлеты делаю, — весело затараторила она.
— Какие котлеты? — недоумевал Штром. — Что она говорит? Что ты говоришь, про какие котлеты? — снова спросил он кухарку.
— Одеты! Одеты! Я их покличу в классную. В эту пору они завсегда одеты бывают, — обрадовалась глухая в полной уверенности, что ее спрашивают — готовы ли пансионерки.
— Мы подождем, не надо! Не надо! — махнул рукою Штром.
Тут уж Мавры счастливо разулыбалась.
— На что мне награда, батюшка, я и без награды скажу. Благодарствуйте, мы и так вами много довольны, — и, низко кланяясь, она поплелась в дортуар звать пансионерок.
Те еще крепко спали, несмотря на то, что было уже половина десятого. Да не только они, спали и Орлик, и Анна Андреевна, спала Сова в своем «дупле», как прозвали старшие пансионерки комнату классной дамы, спала горничная Ирина в умывальной комнате на клеенчатом диване, словом — спали все.
Колокол не звонил в это утро.
Мавре оставалось только выйти на середину дортуара и закричать:
— Барышни! Батюшка с немецким учителем пришли.
Пансионерки вскочили, перепуганные.
— Пожар? Горим? — спрашивали они, на что Мавра отвечала:
— Да, да, в зале!
— Пожар в зале! Ужас! Ужас! — визжали девочки, поспешно одеваясь кто во что попало.
Из своей комнаты выбежала Сова, забыв снять папильотки, в которые всегда закручивала свои жиденькие волосы на ночь, а из противоположной половины дома вихрем неслась Анна Андреевна, вскрикивая:
— Где пожар? Что такое?
Прибежал Орлик, который, тщательно расследовав дело, старался успокоить пансионерок и втолковать им, что никакого пожара нет и все обстоит благополучно.
Вдруг в прихожей прозвучал мерный удар колокола. Это Тася, успевшая во время общей суматохи освободить медный язык от полотенца, теперь трезвонила во всю, изо всех сил дергая веревку.
В этот день никто не жаловался на усталость, и у Дуси Горской прошла головная боль.
Кто был причиной беспорядка — так никто и не узнал. Тася Стогунцева умела хранить свои маленькие тайны.
* * *
Кошечка была очень хорошенькая. Представьте себе длинное гибкое тельце, покрытое золотистой шерстью, а вдоль спины шла узкая темная полоса. Умные зеленые глазки с поминутно расширяющимися зрачками и умильная мордочка, из которой по временам высовывался острый, как жало, розовый язычок. Само имя ее, Милка, как нельзя более подходило зверьку.
Милку привезла в пансион Карлуша, и прелестная кошечка составляла радость и гордость девочки. Не было худшей обиды для Карлуши, как задеть ее любимицу. Милку подарил Карлуше ее отец, который вскоре после этого умер и не мудрено, что маленькая горбунья всем сердцем привязалась к его подарку. Милка спала в дортуаре в постели девочки, ела из одной тарелки с нею и бросалась со всех ног навстречу Карлуше.
Орлик разрешил держать кошку обиженной судьбою девочке.
И вдруг Милка пропала. Пропала бесследно. Ее искали всюду: и в кухне, и в дортуаре, и в классной. Малютка, или Ниночка Рузой, которая, по словам Красавицы, могла забраться даже в наперсток, по причине своего маленького роста, влезла в буфет и обшарила там все полки, стараясь найти Милку, которую любили все без исключения — и воспитанницы, и начальство.
Карлуша плакала. Остальные ходили, понуря головы; даже Настасья Аполлоновна меньше сердилась на девочек и реже покрикивала на них из уважения к общему несчастью.
Одна Тася была весела по-прежнему. Дело в том, что Тася поссорилась недавно с Карлушей.
Маленькая горбунья в совершенстве говорила по-французски и по-немецки. Тася тоже очень недурно владела тем и другим языком. М-lle Орлик, дававшая уроки языков в пансионе, ставила еженедельно отметки по этому предмету. У Таси оказалась на этот раз отметка значительно хуже, чем у Карлуши.
Карлуша не могла не уколоть этим Тасю.
— Ах, ты, француженка! — усмехнулась она, — а еще хвалилась, что лучше всех нас знаешь по-французски.
— И знаю! — огрызнулась Тася.
— Ну не очень-то велико твое знание!
— Отстань! — и Тася толкнула девочку.
— Не смей толкаться! — рассердилась та.
Тогда Тася толкнула Карлушу вторично.
М-lle Орлик видела эту сцену.
— Стогунцева, подойдите сюда, — позвала она Тасю.
— У нас не принято толкаться в пансионе. Это доказывает вашу невоспитанность. Поэтому не угодно ли будет вам в наказание выучить немецкие стихи, пока дети будут совершать послеобеденную прогулку.
Это было строгое наказание, так как девочек водили гулять по лучшим улицам города, а иной раз в городской сад, где всегда играла военная музыка и где было шумно и весело. Тася очень любила такие прогулки.
— Если виновата я, виновата и Вавилова, — со слезами в голосе поясняла она директрисе.
— Толкались вы, а не Вавилова, — отвечала неумолимая m-lle Орлик, — и поэтому будете наказаны вы, а не она.
— Что, досталось на орехи! Ага, будешь толкаться, — торжествовала Карлуша.
— Противная горбунья! — буркнула Тася. — Терпеть тебя не могу! Пусть меня наказали, но уж и ты останешься довольна. Будет тебе праздник!
Но Карлуша не слышала последних слов рассерженной не на шутку девочки и подбежала, подпрыгивая на ходу, в прихожую, где одевались остальные пансионерки и откуда раздавался голос Ярышки, кричавший Тасе:
— Ты не горюй, Стогунцева, с тобой Милка останется и Мавра. Ничего, что Милка кошка, а Мавра глухая тетеря. За неимением лучшего будь довольна и этим обществом!
— Противные, — прошептала сквозь слезы Тася.
Тася долго смотрела в окно, пока вереница пансионерок не скрылась за углом.
Какие они были веселые! Как разрумянились и оживились на свежем воздухе их лица.
— Противные! Гадкие! — зло шептала Тася, глядя им вслед. — Ненавижу вас всех, ненавижу за то, что вы обижаете Тасю, за то, что вам нет дела до нее. Бедная Тася! Бедная Тася, — и она смотрела в окно на опустевшую улицу затуманенными от слез глазами.
И вдруг она увидела стоявшего перед окном мальчика лет двенадцати, смуглого, черноволосого, с лукаво бегающим взором. Он смотрел во все глаза на Тасю и смеялся. Что-то отталкивающее было в его лице. Видя, что сидевшая на подоконнике девочка обратила на него внимание, он запустил руку в карман, вытащил что-то и посадил к себе на плечо. Тася увидела, что это был совсем ручной серенький мышонок.
Почувствовав себя на свободе, зверек и не думал убегать и преспокойно терся мордочкой о смуглую шею мальчика.
Это так заинтересовало Тасю, что она залезла на подоконник и, открыв форточку, высунула голову.
— Эй, ты, мальчишка! — крикнула она, — что это у тебя?
— Разве ты не видишь что? — отвечал мальчик, — ручной мышонок.
— Во-первых, не смей мне говорить ты: я барышня, — неожиданно оборвала его девочка.