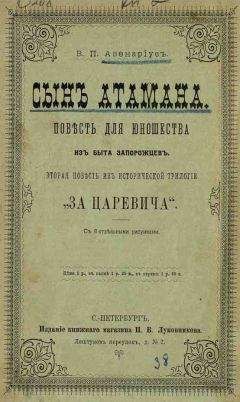— Смотри, князь, смотри! — испуганно шепнул Гришук Курбскому. — Яким заснул!
И вправду, точно лишившись последней опоры, старик бессильно склонился отяжелевшей головой на стол. Бардадым докончил сперва глоток, потом с глубоким вздохом припал щекой к плечу названого брата и мерно захрапел.
Гришук с горя-досады чуть не всплакнул:
— Ну, вот, ну, вот! Что же теперь с нами будет? Курбский стал было его утешать; но на полуфразе замолк. И было с чего. Яким внезапно зашевелился, бережно снял шапку с макушки Бардадыма, подсунул ее ему под щеку и обеими руками с той же осторожностью опустил голову спящего на край стола, после чего тихонько сам приподнялся, сунул в карман себе лежавший еще на середине стола кошелек Курбского с дуваном на церковь и прогул, приблизился на цыпочках к своим трем спутникам и, не говоря ни слова, проворно распутал веревки, которыми панич его был связан по рукам и ногам; потом развязал Курбского и напоследок Данилу. По молчаливому знаку старика, все трое последовали за ним к выходу из пещеры, причем у очага должны были перешагнуть через растянувшихся тут же двух кухарей. Наконец-то они опять на воле! И дышится-то в ночном воздухе как легко и привольно!
— Припрячь-ка, княже, — сказал Яким, подавая Курбскому его кошелек.
— Но часть ты отделил ведь на церковь? — возразил Курбский.
— Как разживешься, так сам можешь вернуть церкви. А в пути каждый алтын дорог.
— Но темень какая! — заметил Гришук. — Хоть глаз выколи.
— Зато, коли пошлют в погоню, не так скоро разыщут, — возразил Яким. — Не знаю вот только, в каком месте у них поставлены кони…
Точно в ответ, неиздалека донеслось конское ржанье.
— Вон и сами голос подают! Ахти! — спохватился он вдруг. — А оружие-то мы забыли в пещере!
— И то ведь! — сказал с досадой Курбский. — Ну, Данило, нечего делать, идем назад.
— Нет, нет, княже, Бога ради!.. — вскричал Гришук, хватаясь за рукав своего молодого защитника.
— Тише, милый! Неравно услышат.
— Умоляю тебя, княже, Христом Богом!
— Но как же мне явиться в Сечь без всякого оружия?
— Там у кого-нибудь новое купишь. Я, право, не пущу тебя…
— Так я один схожу, — сказал Данило. — Не осердись, Михайло Андреевич; мне, вишь, одна мысль сейчас в голову залетела: людишки они, эти каменники, что ни на есть последние, а спят теперича все мертвецким сном…
— Ну, так что же?
— А то, что всю шайку при сем самом раз в ангельский чин снаряжу. Нож в бок — и делу конец.
— Что ты, Данило! Креста на тебе нет! Убивать во сне безоружных…
— А скольких людей они сами живота уже решили! Не чини мне только помехи; я один с ними управлюсь.
— Нет, Данило; нам они оставили жизнь, и мы на них волоска не тронем. Недаром отец Серапион предрекал мне, что ты еще натворишь мне бед!
— Прости, государь, по простоте слова молвилось. Из твоей воли я не выйду. Они и без нас, я чай, до палачовых рук дойдут. А за оружием-то все же вернуться надыть…
Но тут вступился в дело старик Яким:
— Нет, братику, теперя и я тебя не пущу! Кто тебя ведает, что у тебя на уме!
— Да дерзну ли я без своего господина? Я трясусь за ним как хвост за бараном.
— Заговаривай зубы! Мы с Бардадымом побратались, я поклялся перед Богом не выдавать его с товарищами — и не выдам.
— А коней-то все-таки уведешь у них? — сердито усмехнулся Данило.
— За коней мы рассчитались дуваном. Ну, а теперя ступайте-ка все за мной.
Несмотря на почти непроглядный мрак, старый каменник шел по отлогому скату лесистой балки совершенно уверенно. Вскоре они очутились перед входом в другую пещеру, из глубины которой донеслось еще явственнее то же призывное ржанье.
— Ты, Данило, иди-ка со мной, — сказал старик, а вы, паничи, обождите тут.
Немного погодя, оба вывели из пещеры трех оседланных коней.
— Да ведь нас четверо? — заметил Курбский.
— Трое вас, — отвечал Яким с тяжелым вздохом. — Я не еду.
— Боже ты, Боже мой! — вскричал Гришук. — Клятва тебя держит?
— Клятва, да. Знать, такое уж мне предопределение вышло.
— Но ведь клялся ты разбойнику…
— А я чем же лучше? Свой своему поневоле брат. О себе же, касатик мой, не полошайся: князь Михайло Андреевич не откажет доставить тебя до места.
— Но ведь ты знаешь, Яким… коли пойдет в огласку…
— Знаю, радость моя, все знаю, что ты хочешь сказать. Но я сейчас вот поверил все Даниле…
— И тайна твоя в груди у меня, что искра в кремне, — подтвердил запорожец.
— Но ты, Яким, остаешься здесь на верную смерть…
— От смерти, миленький мой, не спрячешься, — отвечал со вздохом дядька. — А может, Господь еще и помилует: ведь я же не убег с вами, а яко бы сплю теперича с ними в непробудном хмелю. Почем мне знать, как вы трое вызволили друг дружку, как раздобыли коней? Выведу я вас сейчас на большую дорогу — и с Богом!
Говоря так, Яким подсадил своего панича в седло, взял коня его под уздцы и пошел вперед. И вот они в открытой степи.
— Отсель, Данило, дорогу по звездам ты и сам найдешь? — спросил Яким.
— Еще бы не найти! — был ответ.
— А ты, княже, как пойдешь обратно из Сечи, не завернешь ли опять в Самарскую пустынь?
— Коли будет время, — отвечал Курбский. — Хотелось бы повидать еще раз отца Серапиона…
— Ну вот. Так от него, может, и оружие свое получишь: к нему прямо вышлю, буде Господу угодно будет еще дни мои продлить. Ну, а теперича храни вас всех Бог!
Он наскоро приложился к руке своего панича, и тот почувствовал на руке своей горячую слезу. Тут бедный мальчик не выдержал и с седла обнял за шею дядьку.
— Ну, полно, не махонькой ведь! — говорил растроганный старик, насильно отрываясь. — Авось, еще и свидимся… Прощай, княже! Прощай, Данило! Не забывай обещанья-то… Да коней, чур, не пускайте вскачь, чтобы паничу моему больного плеча не растрясло…
— Яким! Погоди еще, послушай… — в отчаяньи крикнул Гришук вслед уходящему.
Но тот уже не слышал, или не хотел слышать, и пропал в темноте ночи.
Глава тринадцатая
«ПУГУ! ПУГУ!»
Утреннее солнце сияло уже на небе, а наши три путника ни разу еще не сходили с коней. Пока заря не рассеяла сумрака безлунной ночи, движение их немало замедлялось пересекавшими степь извилистыми балками и выбалками, речками и речонками. Но и теперь им приходилось ехать только мелкою рысью, а то и шажком, так как недавно лишь сросшаяся ключица Гришука не выносила сильных толчков. Настроение же мальчика, несмотря на бессонную ночь и разлуку со стариком-дядькой, с первыми лучами дня разом переменилось. Как будто робея сам заговаривать с Курбским, он обращался с разными вопросами к Даниле и заливался звонким смехом над его, по большей части, шутливыми ответами. Так, спросил он запорожца, отчего у него одна только правая шпора.
— А на что мне другая? — отвечал Данило. — Как пришпорю коня в правый бок, так левый все равно бежит рядом.
— А нагайка у тебя для чего? — продолжал, смеясь, допытывать Грищук.
— Нагайка-то? Чтобы конь мой не думал, что не одни птицы по воздуху летают.
И в доказательство он нагайкой заставил своего коня сделать такой воздушный прыжок, что сам едва не вылетел из седла.
А солнце поднималось все выше и выше; становилось жарко.
— Хоть бы водицы испить! — вздохнул Гришук.
— А что, Данило, — сказал Курбский, — погони, верно уже не будет? Можно бы сделать и привал.
— Можно и должно! — согласился Данило. — В животе у меня самого словно на колесах ездят. Пропустили мы, жалко, два, а то три зимовника. Но вот никак опять один.
В самом деле, в отдалении, над зеленым ковром степи показалась небольшая землянка. Данило вонзил единственную шпору в бок заморенного коня, подскакал к окружавшему землянку плетню и издал условный запорожский клич:
— Пугу! Пугу!
Обычного отклика, однако, не последовало. Запорожец повторил крик, — то же молчание.
— Хозяин, знать, в отлучности, — сказал он, оборачиваясь к подъехавшим спутникам. — Обойдемся и так: у доброго хозяина все найдется в доме.
— Но как же нам брать без спросу? — заметил Курбский, сходя с коня, меж тем как слуга снимал с седла мальчика.
— Без спросу? — усмехнулся Данило. — На то и дверь настежь оставляется, а на столе страва: кто заедет, — вари сам себе обед. Таков уж свычай запорожский.
И точно: при входе в низенькую землянку наши спутники нашли на столе пшено и малороссийское сало, а на лавке целый мешок с бураками. Пока Данило разводил на очаге огонь. Гришук сбегал с ведром к колодцу за водой, а потом стал помогать запорожцу готовить полдник. Курбский не мог надивиться той сноровке, с какой хлопчик чистил ножом бураки и месил пшено, точно то было для него совсем привычное дело. А тут он надумал еще поучать запорожца, как варить похлебку, и тот (дело дивное) беспрекословно делал по указанному.