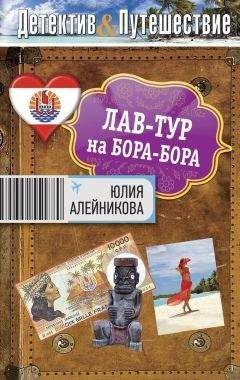Зажав в зубах нож, он вылетел к кострам.
— Та-та-та, та-та-та-та, та-та-та, та-та-та-та! — загремел доморощенный «оркестр», прихлопывая в ладоши и постепенно ускоряя темп.
Крюков чёртом вертелся между кострами, бородища его развевалась, цыганские глаза горели свирепым огнём, а ноги выделывали что-то непостижимое.
— Василий Петрович! — кричал Крюков. — Выручай, друг! Давай хороводную. Концы отдаю!
— Идёт! Только поют все!
За горой горят огни.
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало,
Погорают мох и пни! —
подхватил хоровод.
Пляшет леший у сосны.
Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало,
Жалко летошней весны!
Мишка что-то шепнул Таёжке на ухо и незаметно исчез вместе с Шуркой Мамкиным. Так же незаметно они появились с ведром воды, и Мишка, широко размахнувшись, выплеснул ведро на хоровод.
— Купала! — заорал он, выливая остатки себе на голову.
— Акробатический этюд, — объявил Крюков. — Прыжки через купальские огни. Але-гоп!
И, спрятав под рубаху бороду, первым перемахнул через костёр. Мальчишки козлами поскакали вслед за ним.
Потом все отправились к ручью купаться. Курочка-Ряба приделал себе бороду из лишайника и изображал водяного. Он прыгал по-лягушечьи на четвереньках и вопил, как сыч. В ответ эхо разносило над тайгой весёлый гогот.
Когда это занятие надоело, кто-то предложил искать цветок папоротника. Ведь, по поверьям, он расцветает на Ивана Купалу ровно в полночь.
Но поиски не состоялись. В полночь всё болотное племя, намаявшись за день, насилу доплелось до костров и повалилось кто где.
Последние слова принадлежали Сим Санычу:
— Объявляю соревнование: кто кого переспит. Победитель награждается орденом имени товарища Морфея. Думаю, что орденоносцем стану я.
И Сим Саныч тут же заснул.
В соревновании не участвовали только Василий Петрович и Таёжка. Ещё час назад они попрощались и ушли в Мариновку.
Ночью Таёжку разбудили голоса. В соседней комнате разговаривали отец с матерью.
— Ты же губишь себя! — сердито говорила мать. — Все твои товарищи по институту уже защитили диссертации.
— Высосанные из пальца, — усмешливо добавил отец.
— Они растут и занимают крупные посты в тресте. Тебе нужно быть на виду…
— У кого на виду? У Кузнецовых?
— Ну хорошо. — Голос матери смягчился. — Если ты не хочешь подумать о нашей судьбе, подумай хотя бы о дочери. Что она видит в этой глухомани? Какие люди её окружают? А товарищи-то, боже мой! Мишка этот… как его… Терёхин, кажется? Рукавом нос вытирает!
«Зачем она Мишку трогает? — с горькой обидой подумала Таёжка. — Да он лучше всех московских мальчишек!»
— Ты не знаешь его, Галя. Из таких ребят и выходят настоящие люди. А что касается рукава, то и у Ломоносова в детстве вряд ли был носовой платок… Как у тебя с оформлением?
— Предлагали остаться в городской клинике. Но я попросилась сюда.
Помолчав, мать со вздохом сказала:
— Не хочется мне, Вася, здесь прозябать. Я знаю — я слабый, заурядный человек и не способна на подвиг. Но не всем же быть героями, правда? В конце концов я хочу немногого — жить по-человечески. Или это право только для других?
Отец не ответил. Таёжка слышала, как он чиркнул спичкой и закурил. Потом донёсся его голос:
— Я понимаю, трудно здесь. Это не город. Зимой будет ещё труднее. И условия, в которых придётся работать, совсем не такие, как в столичных клиниках. Но ведь ты врач, Галя! В Мариновке его шестой год нету. В дождь и в пургу тебе придётся выезжать на зимовки, со скандалом вырывать медикаменты, стучать кулаком, требуя нового помещения для больницы… Другого врача здесь не надо.
— Тише…
Отец и мать заговорили шёпотом. И Таёжка вдруг смутно почувствовала, что надвигается непоправимая беда. Возможно, ей придётся потерять одного из этих дорогих ей людей — она должна будет сделать выбор между ними. Но почему отец с матерью думают только о себе, как они смеют?! Ведь она тоже живой человек и всё понимает…
Таёжка не смогла сомкнуть глаз до самого рассвета. Когда в окнах заголубело утро, она услышала, как оделся и вышел из комнаты отец. Таёжка плотно зажмурилась.
Отец несколько минут постоял на пороге, потом шагнул наружу. Следом за ним из комнаты босиком выскользнула мать.
— Вася! — тихо позвала она, но никто ей не ответил.
«Поссорились», — поняла Таёжка.
Мать потерянно стояла посреди комнаты, в полутьме смутно белела её рубашка. Девочке показалось, что мать всхлипнула.
— Мама, — сказала Таёжка, — ты ведь любишь папу?
Галина Николаевна вздрогнула и обернулась.
— Ты разве не спишь?
— Нет. Я давно не сплю.
Мать присела на кровать Таёжки, и на лицо её легла слабая полоса света. Глаза у матери были мокрые.
— Таечка, — сказала она, машинально гладя дочь по голове, — ты соскучилась по Москве?
— Не знаю, мама. Раньше я очень скучала. Но теперь ты здесь, и мне хорошо.
— Понимаешь, дочка, папа очень талантливый человек и в Москве принесёт гораздо больше пользы, чем в этой глуши.
Таёжка покачала головой.
— Здесь папу любят, — сказала она. — И он очень нужен. Он ведь работает за двоих лесничих.
— Я знаю, — грустно согласилась мать. — Он всю жизнь работал за двоих. И вот награда — медвежий угол да комарьё! Только ты не думай обо мне плохо: ведь я ехала сюда с искренней радостью, а теперь боюсь… Боюсь! — Мать схватила Таёжку за руки: — Таечка, умоляю тебя — поговори с папой! Может, он тебя послушает. Обещаешь?
Таёжка высвободила руки и села; лицо её оказалось вровень с лицом матери.
— Что ты на меня так смотришь? — спросила мать и опустила голову. — Значит, не хочешь?
— Нет, мама. Да папа бы всё равно не согласился.
Галина Николаевна ничего не ответила и быстро скрылась в своей комнате. Сердце Таёжки сжалось от боли. Она на цыпочках подошла к двери:
— Мама!
Мать резко повернулась:
— Ну, что тебе надо? Оставь меня в покое! Злая, неблагодарная девчонка!
Таёжка прикусила губу и, чтобы не разреветься, опрометью бросилась на улицу.
— Ты чегой-то какая квёлая? Обидел кто? — спросил дед Игнат, переправляя Таёжку через реку. — К своим путь держишь, в зимовье?
Таёжка кивнула. Но, выбравшись на берег, она пошла совсем по другой, незнакомой тропинке — сейчас ей никого не хотелось видеть. Тропинка пробивалась сквозь высокую густо-зелёную траву. Роса ещё не успела высохнуть, подол платья сразу намок и облепил колени. От его прикосновения по коже бежал чуткий озноб.
Всё глубже и глубже в лес уводила тропа; несколько раз она ветвилась, и тогда девочка не знала, в какую сторону идти. Впрочем, это было безразлично.
«Вот заблужусь и умру голодной смертью, — упрямо думала Таёжка. — Тогда-то папа с мамой помирятся, но будет уже поздно».
Потом Таёжка вспомнила своих одноклассников, и ей стало жалко себя. Больше всех, конечно, будет горевать Мишка. Никогда уж она не забежит за ним на лыжах. Никогда Федя не повезёт их в Озёрск, и не будет она воровать для Мишки табак.
Всё гуще и угрюмее становился равнодушный лес. Солнце уже стояло над вершинами деревьев, и спелые лучи его ползали под ногами, забираясь в каждую щёлку.
Таёжка присела отдохнуть возле крохотного лесного озерка. По его тяжёлой воде стремительно скользили водомерки. Они походили на лихих конькобежцев-фигуристов, а само озеро напоминало каток, залитый тусклым и гладким льдом.
У берега под водой суетился жук-плавунец: строил воздушный колокол. Он то и дело поднимался на поверхность и высовывал наружу оливковое брюшко. Набрав воздуху, жук нырял и принимался хлопотать вокруг своего подводного домика.
Таёжка долго следила за жуком, потом вздохнула и побрела дальше. Очень хотелось есть. На какой-то просеке ей повезло: она набрала несколько горстей красной смородины. Впрочем, смородина была ещё зелёной и на вкус оказалась такой кислой, что сводило челюсти.
Таёжка всё-таки съела ягоды. Но голод от этого не притупился.
Рядом торопливо лопотал о чём-то ручей. Таёжка напилась его студёной воды, хотя жажды не чувствовала. Напившись, она прилегла под старой, дуплистой берёзой и закрыла глаза. Ноги гудели от усталости, всё тело охватила зыбкая, ленивая дремота, и Таёжка уснула.
Ей снилось, что она плывёт на плоту по широкой реке, и лёгкие волны, серебрясь на солнце, покачивают её покойно и плавно. Брёвна плота с шуршанием тёрлись друг о друга и сильно пахли размокшей сосновой корой.
Мимо по берегу мелькали черёмухи в позднем весеннем цвету, и ветер раскачивал их вершины. Но с деревьев срывались не цветы, а тысячи белых бабочек. Они летели к плоту и, обессиленные, падали в воду. Они кричали жалобно и хрипло, как птицы, попавшие в беду.