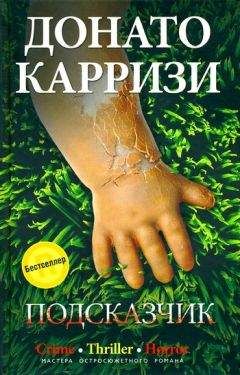— Ну, как дела, Сева? — спросил он.
Сами по себе эти слова ничего не значили. Люди ведь часто встречаются и говорят: «Как дела?» А ответ их совсем не интересует. Из вежливости они спрашивают про дела, что ли? А у Шерстнёва это было совсем по-другому, он действительно хотел узнать, как мои дела.
— Неплохо, — ответил я. Неудобно было сразу выкладывать свою новость. У него впереди самая горячая работа: сенокос, подготовка к уборочной, а я еду отдыхать. Потом не выдержал и добавил: — Дали путёвку в Артек, не знаю, отказаться или нет? Сейчас из совхоза ни один человек не уезжает в отпуск, а я вдруг уеду.
— Не страшно, — сказал Шерстнёв. — В этом году мы справимся. А тебе надо, брат, подлечить свой тонзиллит. Будешь там горло полоскать морской водой и поправишься. Ну, бывай здоров!
— До свидания! — сказал я.
— Между прочим, держись в Артеке солидно, не подводи совхоз. Сам понимаешь, там ребята со всего Советского Союза и даже из-за границы, и если ты что-нибудь откомаришь, представляешь, какой шум пойдёт?
— Понимаю. — Было ясно, что он к чему-то клонит.
— Соберутся, например, пионеры на сбор, — продолжал он, — будут петь, танцевать, а ты вдруг замяукаешь по-кошачьи. Международный скандал.
— Это я ради матери придумал, вы же знаете, — ответил я. — Она не выносит, когда врут. А меня иногда так занесёт… И тогда, чтобы остановиться, я начинаю мяукать.
— Прогрессивный метод, — сказал Шерстнёв. — Ну, а удоду почему ты подражаешь?
— Господи, вот уж Нина Семёновна! — возмутился я. — И это она рассказала. Просто я изучаю птичьи голоса. Задумался на уроке и закричал, как удод. Несчастный случай.
По-моему, я здорово выкрутился, хотя никакие птичьи голоса я не изучал. Поспорил с ребятами, что закричу на уроке удодом, и закричал. Я хозяин своего слова.
— Ясно, — сказал Шерстнёв. — Только постарайся без несчастных случаев.
— Конечно, — ответил я. — А Нина Семёновна обиделась на меня. Она вообще обидчивая. Я у неё прощения просил — не прощает.
— А за что она так на тебя? — спросил Шерстнёв.
Я промолчал, не хотелось про это рассказывать, но он упрямо ждал и подозрительно поглядывал на меня.
— Ничего особенного, — сказал я. — Я её прозвал «Богиня Саваофа».
— Как, как? — переспросил Шерстнёв.
— Ну, в общем, верующие придумали себе бога Саваофа. Он у них один в трёх лицах: бог-отец, бог-сын и бог — святой дух. А Нина Семёновна тоже одна в трёх лицах: старшая вожатая — раз, учительница — два, главный редактор — три. Ну, я и прозвал её «Богиня Саваофа». Я ей говорю: «Простите, Нина Семёновна, не знаю, как у меня такое с языка сорвалось», а она голову отворачивает. Даже разговаривать на эту тему не желает.
— Строгая у вас Нина Семёновна, — сказал Шерстнёв.
— Строгая, — ответил я. — И ужас до чего обидчива.
С этим мы и разошлись. Шерстнёв пошёл в свою сторону, а я в свою.
Потом я оглянулся. Сам не знаю почему, потянуло меня оглянуться. У него была широкая, сутулая спина и длинные руки. И тут он тоже оглянулся. Обычно когда люди оглядываются одновременно, то они чувствуют себя неловко и сразу отворачиваются. А Николай Павлович и не подумал отворачиваться.
На сборе отряда, когда мне давали рекомендацию в Артек, меня изрядно пощипали: и ленивый, и разболтанный, и иронически относится к девочкам.
Надо же, какое слово придумали: «иронически». Так оскорбить человека только за то, что он одну девчонку назвал дохлой принцессой. И самое главное, что против слова «принцесса» никто не возражал. Их, видите ли, возмутило определение «дохлая».
Тут я решил вставить слово, надо было защищаться.
— Но ведь сейчас живых принцесс в Советском Союзе нет, — сказал я. Это шутка, литературный образ.
Все мальчишки засмеялись, девчонки возмущённо зашикали, а «Богиня Саваофа» сказала:
— Ты грубиян, Щеглов, но мы на тебя не обижаемся. Просто ты не понимаешь душевной тонкости человеческой натуры. О-чень, о-чень жаль.
Когда она произносила эти слова, то так выговаривала каждую букву, словно хотела, чтобы её «о-чень, о-чень жаль» перевоспитали меня в одно мгновение, чтобы я, как Иванушка-дурачок после купания в кипящем котле, сразу преобразился и сказал: «Дорогая Нина Семёновна, я больше никогда, никогда не буду вас огорчать, и вообще я никого не буду огорчать, я стану первым земным ангелом».
Наступила минута напряжённого молчания. Бывают такие напряжённые минуты, когда всё решается. Вот и сейчас наступила такая минута, и ребята задумались, стоит ли меня посылать в Артек.
«Так, так, — подумал я. — А кто лучше всех прочёл лекцию о международном положении, это они забыли? Забыли, как я им рассказал, что было время, когда пустыня Сахара была плодородной долиной? Они сначала смеялись. А я им сказал: смейтесь, смейтесь, только учёные нашли там на скалах рисунки древних людей, которые жили в Сахаре. Например, рисунок «Великий марсианский бог». Представляете, не просто какой-то обыкновенный бог, а «марсианский», потому что он нарисован в скафандре. Ну, вроде как наши космонавты. И, может быть, это совсем не бог, которого придумали жители Сахары, а марсианский космонавт. Может быть, он спустился к ним на корабле, а они по своей отсталости приняли его за бога и нарисовали на скале. Тут ребята прямо закачались от неожиданности. А потом три дня только и разговаривали про марсианского космонавта. Правда, какой-то скептик заметил, что всё это не имеет ни малейшего отношения к международному положению, что моя лекция не по правилам. А я ответил, что не люблю по правилам.
А разве не я работал на огородах в совхозе, четыре часа ползал на четвереньках среди этих проклятых полосатых огурцов? Причём добровольно! Хотя я самый отчаянный враг ручной работы».
А теперь об этом никто не вспоминал. Все сидели и молчали. Ну, ну, чего же вы молчите? Откажите мне в путёвке, раз вы решили, что я плохой человек. Откажите, если вы думаете, что я вам даю прозвища по злобе. А вы знаете, как я сам себя прозвал? «Трусливый заяц» и «Барон Мюнхаузен». Эти прозвища пообиднее, чем у вас. А они молчали. Нужно было что-то сказать, заплакать или ударить себя кулаком в грудь и дать честное слово, что я теперь буду хорошим. Ради Артека необходимо было это сделать, и потом, мне обязательно надо было попасть в Москву по личному делу.
— Раз так, — сказал я, — можете не посылать меня в Артек.
Несколько ребят подняли руки, чтобы выступить, но «Богиня Саваофа» никому не дала слова.
— Я думаю, что теперь Щеглов сможет критически оценить своё поведение. — Она улыбнулась. — А мы дадим ему рекомендацию.
— Правильно, правильно! — закричали ребята. — Дадим ему рекомендацию.
А когда мне написали рекомендацию, то там оказалось всё наоборот. Чёрным по белому было написано, что я дисциплинированный, находчивый пионер, добрый товарищ, прилежный ученик.
Я тогда говорю «Богине Саваофе»: чему же верить? То ли тому, что она говорила на сборе, то ли тому, что написано в рекомендации? А она отвечает: и там и там есть немного правды.
— А почему немного? — спросил я. — Говорили, на полуправде в коммунизм не въедешь, а сами…
Она вдруг разозлилась и сказала:
— Слушай, не морочь мне голову, сам прекрасно знаешь всё про себя!..
Действительно, это было так. Про себя я всё прекрасно знал. Только непонятно, зачем нужно было обсуждать меня на сборе и писать наоборот, если про меня всё ясно.
Помолчали. Я не хотел с ней заводиться, но никак не выходили из головы её слова, что у Меня нет сердечной теплоты к людям. Это меня мучило, и всё. Неужели она так на самом деле думает?
— Нина Семёновна, — выдавил наконец я. Не так легко это было спросить. — Нина Семёновна…
— Слушай, Щеглов, — перебила она, — шёл бы ты домой. Мешаешь мне работать.
Боже мой, какая работа! Она писала заметки для стенгазеты. Она писала все заметки сама, а потом ребята их переписывали.
Однажды она привлекла к этой важной работе и меня: поручила нарисовать цветными карандашами заголовки. А я взял и разрисовал все заметки. Когда она увидела, что я наделал, ей дурно стало. Она закричала, что это продуманный враждебный политический акт, что я нарочно сорвал выпуск стенной газеты.
Теперь она меня к газете близко не подпускала.
— Нина Семёновна, — я всё же решил довести разговор до конца, — вы тогда на сборе серьёзно сказали, что я бездушный человек или, может быть, пошутили? Просто меня воспитывали?
— Разумеется, серьёзно.
Ох, до чего она была деревянный человек, прямо мокрая деревяшка, ударишься об неё — и никакого отзвука! Она выводила большими буквами заголовок на газете: «Стенная печать — сильнейшее критическое оружие!»
— И ребята так про меня думают? — спросил я.
— Разумеется, — ответила она.
Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, но я ничего не мог придумать. И тогда я издал такой клич удода, что ни одному настоящему удоду он и не снился никогда. «Богиня Саваофа» подскочила на стуле.