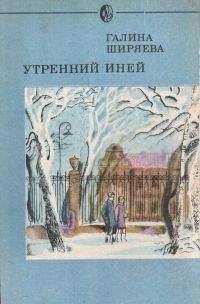Ведь не песню высмеяла Аля… Родное солнце и родную реку она высмеяла! Как высмеяла потом и волшебный барбарис на желтых лютиковых холмах, берегущий в себе утреннее солнце.
Что сделалось с Алей?..
* * *
Отец, увидев Наташу, вроде бы и не очень обрадовался, я Наташа восприняла это как закономерность — все теперь так, все по-другому, все по-новому.
— Приехала? — спросил он, несколько удивленный. — А я на воскресенье к вам туда собрался. Вот доски принес.
Это за досками он ходил в подвал. Уж не перила ли он собрался чинить? Вот мать узнает, покажет она ему перила!
— А я сейчас же обратно, — успокоила его Наташа, которой сегодня хотелось быть всеми обиженной. — Я только за туфлями приехала.
— Ну зачем же так сразу и обратно? На ночь глядя. Переночуй. Утром и поедешь.
— Бабушка ждать будет. И Райка там… тоскует.
— Одичаешь тут без вас, — он сказал это невесело, и Наташа догадалась: перед отъездом матери в поле у них была ссора.
Отец четвертый месяц работал подсобником на своем же заводе, и в этом беды, конечно, не было. Не один он работал пока подсобником — на заводе шла реконструкция печи и главного конвейера. Но мать считала, что такого умного, такого квалифицированного рабочего, каким был отец, несправедливо обидели и унизили, он же, такой умный, такой квалифицированный, позволил себя обидеть и унизить.
Наверно, она представляла его себе не иначе как в большом брезентовом фартуке, с метлой в руке, потому и пилила его — от жалости…
— А я есть хочу! — сказал Наташа, не обнаружив ни в кухне, ни в холодильнике ни крошки съестного.
— А мне тебя кормить нечем, — честно признался отец. — Я в столовую собирался. Пойдешь? Все равно сейчас ехать не с руки — ни автобусом, ни электричкой, народ с работы двинулся, надо переждать. А пока я тебя покормлю.
* * *
Он привел ее в знакомую ей с детства столовую в трех кварталах от их дома.
Это была очень маленькая и неуютная столовая в старом двухэтажном доме, и кормили в ней не очень хорошо, но отец каждый раз, как только представлялся ему случай, приходил обедать именно сюда. Когда-то в этом здании находился детский дом, в котором он жил. Столовая принадлежала детскому дому, и здесь на обед давали щи из соленых не созревших помидоров и несладкую манную кашу на воде, и это был роскошный обед по тем временам, потому что была война. Датский дом уже давно закрыли, не было теперь в нем надобности. На втором этаже здания помещалось какое-то самое обыкновенное учреждение, столовая же на первом этаже осталась, и отца всегда тянуло сюда, в этот дом.
Однажды, когда они пришли сюда всем семейством, Наташа вслух высказалась: неужто другой столовой в городе нет, получше? И мать совсем по-бабушкиному одернула ее, потому что это надо было понять… Вот теперь, в той же самой столовой, где он в детстве никогда не ел досыта, можно заказать сколько угодно еды. Если даже в меню одни макароны, все равно можно сколько угодно купить и съесть этих макарон. Это надо было понять, и мать это понимала, потому что сама голодала в детстве, а Наташа понимала с трудом, потому что никогда не испытывала сильного голода, даже когда бабушка Дуся, наслушавшись Наташиного вранья, не растопляла таганок.
И все-таки Наташа чувствовала, что отца тянет сюда совсем другое… Как притягивали ее бабушкин дом и картофельное поле, так притягивало его к себе это старенькое некрасивое здание, стесненное со всех сторон новыми высокими домами. И еще он приходил сюда потому, что надеялся, может быть, здесь, именно в этом доме, куда его привезли совсем маленьким, узнать что-нибудь о своих родных, узнать свою настоящую фамилию… Его подобрали когда-то солдаты на разбитом бомбами вокзале. И от него пошел род, носящий суровую фамилию Солдатовы. Наташа появилась в этом роду первая. И она, как и отец, очень часто на улице и в трамваях пристально всматривалась в лица незнакомых людей, надеясь встретить кого-нибудь похожего на отца. Ведь есть же где-нибудь на свете его родные. Но на всем белом свете лишь один человек был похож на него — она сама, Наташа Солдатова… Отец встал в очередь с подносом в руках, и Наташа издали незаметно наблюдала за ним, точно так же, как это делала мать, когда они приходили сюда все вместе. Очень красивыми были у него руки — большие, темные то ли от загара, то ли от жаркого огня его печи, в которой варили стекло, с крепкими пальцами. И лоб с неглубокими морщинками тоже красивый, и волосы еще не седые, а золотистые, как и у нее, у Наташи. И хорошо, что она на него похожа и уши по-князьевски не оттопыриваются. И хорошо, что он работает на таком светлом, таком звонком заводе. Наташа любила отцовский завод чуть поменьше, чем рыжие бугры и картофельное поле, но все-таки любила. Да и находились-то они недалеко друг от друга — это отцовский завод освещал небо над рыжими буграми всю ночь уже после того, как гасла над ними заря из Нюркиной песни.
Доброе воспоминание пришло к Наташе. Она вспомнила, как однажды — а было ей тогда лет восемь — отец с матерью приехали в совхоз вместе, и отец полез на крышу, чтобы залатать щель возле трубы, а мать бранила его за это, так как хотела, чтобы бабушкин дом поскорее развалился.
— Ишь ты! — ворчала на мать возмущенная бабушка Дуся. — А я вот вашей Наташке его завещала.
— Отец! — ехидно кричала снизу мать. — Смотри там Наташкину трубу не развали!
— Не развали! Моя труба! — весело вопила и Наташа, вползая к отцу на крышу. — Моя!
— Твоя! — смеясь, подтвердил отец.
И под этот добрый возглас «твоя» Наташа отсюда, с высоты бабушкиной крыши, увидела то, что было за Князьевским лесом. Там был далекий синий горизонт, а за ним угадывалась огромная могучая равнина… И хоть лес стерег ее от Наташи, выставив в небо густой ряд темных крон, все равно это была могучая, великая равнина — ее, Наташина, равнина.
То был самый веселый день в Наташиной жизни. Потому что они собрались у бабушки все вместе, потому что было хорошее утро, потому что она увидела, где кончается лес, и знала теперь, что есть у нее не только картофельное поле, рыжие бугры и желтые холмы с барбарисом, но еще и эта огромная, великая равнина, на которую, как рассказала потом мать, когда-то сама Земля двинулась в наступление, да не справилась, сломалась, сбилась Уральскими горами. И там, на той великой, необъятной равнине, конечно же, были вековые реперы.
Тот день был самым веселым еще и потому, что трубу они с отцом все-таки развалили, вытащив из нее, из озорства, два совсем дряхлых кирпича, которые все равно скоро сами бы вывалились. А бабушка Дуся это заметила, и они потом трубу ремонтировали, и так отремонтировали, что она вот до сих пор никак не развалится.
* * *
Он принес ей гороховый суп, котлеты с макаронами и компот. Больше в меню ничего не оказалось.
— Это они сегодня что-то сплоховали, — сказал он виновато, выгораживая свою родную столовую. — Вообще-то они в последнее время совсем неплохо научились готовить.
Ложку он держал крепко, всей ладонью — словно ел не из тарелки, а из походного котелка, — и в нем сразу появлялось что-то фамильное, солдатское. В нем вообще было много от их с Наташей фамилии. Непонятно было, за что мать так часто его жалела, такого солдатского, крепкого, с сильными руками. Бот и мать, и даже Наташу страшила новая, совсем неизвестная печь, которую сооружали у него на заводе, у которой ему придется теперь работать и которая еще неизвестно как поведет себя… А его самого не страшила ни капли. И новый способ производства стекла, с которым он еще совсем не был знаком, тоже. «Безлодочный, — объяснил он Наташе. — А лодочный — это такой, когда стекло идет вот так». Он складывал ладони лодочкой, объясняя, и Наташа со страхом представляла, как проходят сквозь его ладони раскаленные стеклянные струи… Или же виделось ей такое: плыл раньше отец по огненной стеклянной реке в прочной и надежной лодке, а теперь лодку у него отобрали, и придется ему добираться к берегу огненной реки безлодочно, вплавь. А он не боялся.
Однако же Наташа давно заметила: приезжая в совхоз на день-два, он никогда не чувствовал там себя гак уверенно, как на своей огненной реке. Старался не попадаться на глаза жителям, за три версты обходил ишутинскую контору, словно считал себя виноватым в том, что делает своими крепкими руками такую хрупкую вещь, как стекло, а не пашет землю, не борется с фитофторой, не лязгает железом по утрам в мастерских…
— Аля уехала и не пишет, — не выдержала, в десятый раз пожаловалась ему Наташа, и он в десятый раз успокоил ее:
— Обязательно напишет! Вы же с детства дружили!
— Мало ли что бывает в детстве. Детство — одно, а жизнь — другое.
— А разве детство — не жизнь?
Странный начался у них разговор. Он почти слово в слово повторял тот, последний их спор с Алей.