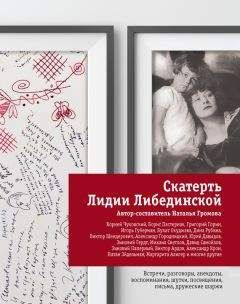На рассвете не выдержал — пополз. И рысенок со мной увязался. Лезет рядышком, с боку на бок переваливается. Добрались все же. Напился сам, кончик рубахи смочил и рысенку дал пососать. Успокоился малыш, пищать перестал.
А потом в три приема добрались мы с сиротой до ружья. Один ствол исправным оказался. Воткнул я обломок приклада в землю да и палю себе с интервалами. Все патроны извел — выстрелов пятнадцать, должно быть, дал. Рысенок с перепугу совсем обезумел — лезет ко мне под рубаху, да и только!
На счастье, альпинисты неподалеку ночевали. Пришли. Просил их шкуру сберечь рысью, тогда еще замыслил вещь из нее сделать знатную.
Две недели в больнице провалялся, а Мурку тем временем жена завхоза нашего молоком выпаивала. Вернулся из больницы — к себе зверушку забрал. А сейчас, сама видела, какая красавица выросла. Жалко расставаться, а ничего не сделаешь. Приедет экспедиция зооцентра зверей забирать, отдам и Мурку. Прокормить такую, и то маяты сколько.
— А я бы после такого ничуть не жалела, — угрюмо пробурчала Алка.
— Ну, Мурка, положим, во всей этой истории вовсе ни при чем. А если как следует, по-человечьи, разобраться, то и мамашу ее строго судить нельзя: детеныша своего защищала, себя не жалеючи. Урон большой от них, и уничтожать их приходится, только злиться на зверя не следует — человечья мерка для них не подходит… Бери-ка ложку, Алка, ешь! Завтра чуть свет разбужу.
Мне было лет восемь, когда состоялось наше необычное знакомство, его же возраст только еще начал измеряться месяцами. С ломтем белого хлеба в зубах он удирал от ватаги орущих мальчишек, а вдогонку ему летели тяжелые городошные палки и камни. Я бежал следом за всеми и плакал от ненависти к мальчишкам и невозможности помочь щенку. Крышка от бидончика где-то потерялась, молоко расплескивалось мне на колени, на новенькие сапожки…
Сознание беспомощности было тем мучительней, что минутою раньше я чувствовал себя таким большим и сильным! В тот день меня впервые послали одного с ответственным поручением — купить молока на базаре. Я старался вышагивать широко и твердо, чтобы все слышали, как скрипят настоящие «мужские» сапоги, позвякивал мелочью в кармане и насвистывал неумелыми губами какую-то «взрослую» песенку.
Обычно на незнакомых улицах я обходил сторонкой любую ребячью компанию. На этот же раз, упиваясь собственной отвагой, нарочно остановился поглазеть, как на солнечной стороне, у забора, ватага босоногих мальчишек играет в городки. Отцветала вишня, снежинками лепестков осыпая молодую травку под забором. На замшелой тесовой крыше мирно ворковали голуби.
Рядом со мной оказался еще один болельщик: упитанный, лет пяти карапуз мусолил ломоть пшеничного хлеба и вяло отбивался от худого, видимо, бездомного щенка. Как только ни ухищрялся песик, чтобы привлечь к себе внимание: взлаивал, подскакивал на задних лапах, неистово крутил хвостом! Все понапрасну — малыш не отводил завороженного взгляда от мелькавших в воздухе палок.
Перехватив бидончик в другую руку, я отправился восвояси. Но не успел отойти десяти шагов, как услышал позади отчаянное:
— Бей! Бей! Держи его!
Должно быть, воришка был ужасно голоден, если, уронив ломоть, вернулся, чтобы подхватить его. В этот миг и настигла беднягу тяжелая палка… В толпе преследователей бурное ликование — щенок с визгом опрокидывается через голову и, волоча подшибленную ногу, протискивается в ближайшую подворотню. Мальчишки, помешкав, возвращаются.
— Если еще придет — прикончу! Палкой по башке — и готово! — Белобровый веснушчатый крепыш с трудом переводит дыхание. — Ишь, повадился, гад, хлеб отнимать у маленьких!
Неприятный холодок все еще пробегал у меня по спине, пока я разыскивал в чужом дворе обреченного щенка. Обнаружить его было непросто: в узкой щели между мусорным ящиком и сараем злополучный щенок зализывал ссадину на боку. Заметив, что выход из его убежища отрезан, бедняга попятился назад, будто собирался втиснуть худенькое тело в кирпичную стену, и тихонько заскулил от ужаса.
— Кутик! Кутик миленький! — позвал я его, приседая на корточки. — Ну поди ко мне, поди, мой хороший!
Песик почуял ласку в моем голосе и умолк.
— Ну, выйди, собаченька, выйди! — уговаривал я, протягивая руку. Кутенок насторожил одно ухо и неуверенно вильнул хвостом. Прошло немало времени, пока он отважился покинуть свой угол. Он подползал ко мне на животе, извиваясь всем телом, вздрагивая и отводя голову в сторону на случай внезапного удара. Он еще не совсем верил мне, но тем не менее приближался, дробно поколачивая хвостом по стенке мусорного ящика.
Наконец я могу дотянуться и погладить повинную голову. Щенок мигом преображается: он жадно лижет мне руки, вьюном вертится у ног, взвизгивает от радости. В найденный черепок я наливаю немножко молока. Теперь дружба скреплена окончательно: за угощение, за минутную ласку щенок готов простить людям все их прегрешения.
У него симпатичная крупная голова, вислые, бархатистые на ощупь уши. Над блестящими карими глазенками горят пламенно-желтые пятнышки. Черная полоса вдоль спины на боках переходит в дымчато-бурый цвет подпаленного дерева. Широкие лапы — в чистеньких белых чулочках.
— Что ж, пойдем, приятель! Пусть достанется нам дома за самовольство, но тут нельзя тебе оставаться.
Щенок согласен со мной хоть на край света. У калитки, правда, заколебался: опасливо выглянул на улицу и прижался к ногам — вдалеке, у забора, по-прежнему швыряют палки мальчишки.
— Смелее! — ободряю я. — Они не заметят.
И кутенок решается — выскакивает из калитки и семенит впереди, искусно прячась за мои ноги.
Маму ничуть не обрадовала моя находка. Но во время затянувшихся переговоров у кутьки был такой трогательный, просящий и виноватый вид, что ей не оставалось ничего другого, как махнуть рукой:
— Ладно уж, пусть остается! Валетом, что ли, назовем?
Детство его пролетело как-то совсем незаметно, я почти не помню Валетку маленьким. Запомнилось, что при появлении старших в коридоре мой увалень считал своим долгом вскакивать с подстилки и вежливо вилять хвостом. Безграничное добродушие его уже в ту пору удивляло и сердило меня. Мне, например, было обидно за щенка, когда ожиревший нахальный кот Мур безнаказанно выбирал у него из-под носа лучшие куски. Помню еще, как впервые залился Валет солидным басовым лаем и лукаво скосился на меня, шельмец: послушай, мол, голосок-то каков!
А дальше в моих воспоминаниях Валет представляется уже взрослой красивой собакой. Вот он, распластавшись над землей, вихрем несется мне навстречу, круто тормозит и почтительно, бережно принимает из рук ученическую сумку. Теперь до самого дома потащит ее в зубах, гордо вскинув голову и смешно кося глазами по сторонам — не собирается ли кто посягнуть на доверенное ему добро?
А вот, впряженный в санки, мчит меня Валетка размашистым галопом по улице. Щуришься, бывало, от встречного морозного ветра, от снежной пыли, и жутковато становится и радостно.
Недюжинная сила, как это нередко бывает, уживалась в моем любимце с поистине голубиным миролюбием. Двухлетняя сестренка моя могла вытворять с ним что угодно. И за уши его таскала, и за хвост, и верхом на него садилась. Терпеливый пес только жмурится устало: что, мол, с ней поделаешь, маленькая еще!
Привяжется к нему какая-нибудь вздорная собачонка на улице и ну истерику закатывать! Визжит, захлебывается лаем, слюною брызжет, того и гляди наизнанку вывернется от злости. Валетка никогда не унизится до драки, хотя мог бы прикончить забияку одним ударом лапы. Если уж совсем иссякнет терпение, остановится выжидательно и слегка повернет набок голову: что, мол, дальше последует, а ну!
Прием действовал безотказно — тявкуша мгновенно немела и ретировалась с поджатым хвостом.
Собачья преданность вошла в поговорку, и Валет не представлял в этом смысле исключения. Стоило мне на час-другой задержаться в школе либо у товарища, лохматый друг мой отправлялся на розыск, а при встрече радовался так бурно, будто уж и не чаял видеть меня в живых.
Однажды летом проводили меня на целый месяц к бабушке в деревню. В запоздалом письме из дома, как упрек моей беспечности, содержалась приписка и о Валетке. Он захворал на другой же день после моего отъезда — почти не притрагивался к пище, похудевший, обессилевший, часами просиживал на крыльце, с тоскою глядя на дорогу. А ночами вскакивал вдруг, бежал к моей постели и надолго замирал перед ней, положив голову на одеяло.
Зато после разлуки Валет даже на час боялся потерять меня. Куда бы я ни направлялся, неусыпный телохранитель мой всеми правдами и неправдами увязывался следом. Если я настойчиво прогонял его, он делал вид, что уходит, а сам прятался, хитрец, за прохожими и появлялся у самых ног на какой-нибудь дальней улице, откуда, он знал по опыту, его уже не прогонят.