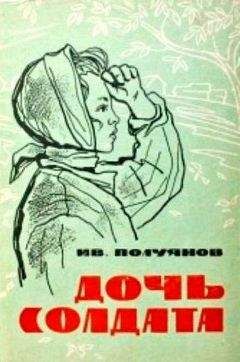Верка, наморщив лоб, молчала.
— Ну что? Ну чего ты? — усмехнулся одними глазами Веня.
— Да я бы ее… Противная старуха — белые глаза!
— Н-ну… — Веня локтем провел под носом. — Ты будто маленькая. Зареви еще. Куда ты Домну-то деваешь, а? Под порогом, что ли, закопаешь. И сыновья у ней выросли хорошими людьми. Докармливают матку, деньги высылают… А чтобы вызвать к себе, самим в деревне показаться — ни, ни. Совестно им, что Карпушонки. Да и мамаша, Домна-то, верно, вреднючая бабка. Зимой у ней снега из-под окон не допросишься. Для себя век свой прожила. Как она вас на квартиру пустила— удивляюсь!
Глава IX. По-родственному
Новость в деревне: вернулся из заключения Павел Теребов. Как Маня разведала, привез себе пальто с длинными полами и хромовые сапоги — новехонькие, на ногах не бывали, а жене Алевтине — она воду на ферму возит — шаль. Очень нарядную шаль: не в будни носить, по большим праздникам.
Везде Маня, Веркина праворучница, первая поспеет. У кого корова отелилась и бычка ли, телочку принесла; кому председатель лошадь дал— сена привезти по трудодням; кто посылку из города получил и что было в ней, — все ей известно, нет для Мани секретов. Пожалуйста, она и шаль у Алевтины высмотрела… пожалуйста!
— Борода у Паши-и, — выпевала Маня окая, — Рыжая-прерыжая! А он смеется, в мороз, говорит, греет. Он в Забайкалье срок отбывал. Ага, в диких степях. Про них песня сложена, жалостливая, старинная-старинная! Там золото роют в горах, там бродяги с сумой на плечах.
— Паша тоже бродяга?
— Что ты? Что ты? — зачастила Маня, и сережка в ухе тряслась, тугие косички выставлялись из-под платка рожками. — Он Ленькин батя. Он ради встречи Лене форму школьную и галстук подарил. Леня-то радехонек. Ровно обсевок в поле рос, а теперь — отцовский сын.
Верка сникла. До того осведомлена Маня — синичьи глаза, страх один.
— В суме все привез, да?
— Не-е! В чемодане на три замочка. Он Теребов, ты разве не знаешь? Он после войны, как с фронта вернулся, был у нас председателем. На жеребце ездил. Да вином начал зашибать, да с хлебосдачей не совладал… И дали ему срок. А жалели его в деревне: всяко не один пил, ведь мужикам-то подносил. Ой, и прибавилось же забот Николаю Ивановичу! Что и будет-то? Что будет?
— Какие заботы? — сказала Верка. Голова пошла кругом от речей праворучницы. — Ничего не понимаю.
— Да они ведь оба Теребовы! Ближе родни у твоего дяди никого нет. Свой своему поневоле брат. Место теперь надо Паше? А то как же, непременно! Любо ли, посуди, Николаю Ивановичу будет, если его родич останется безо всякой должности? Много ли Николай Иванович у нас живет, да на него и в районе оглядываются. Замолвит ведь он за Пашу словечко по-родственному?..
— Очень даже просто, — перебила ее Верка.
Для убедительности ввернула тетины слова: — Это он, дядя, ради себя пальцем о палец не ударит, зато для других… Что ты, дядю нашего не знаешь? Для людей живет. Весь свет на себя готов перевести.
Маня предложила:
— Идем, посмотрим на Пашу? У него сегодня привальная… Ага! Он по избам ходит, к себе на гостьбу зовет.
Верка поморгала: «„Привальная“ — надо запомнить».
Нашли они Пашу Теребова на улице. Вот кто великан, так уж великан! Высок, плечист и длиннорук. Борода красная. Широкая, с проседью. Сам веселый, щеки и руки в веснушках. Несмотря на мороз, он без перчаток и пальто нараспашку. Шагает вразвалку серединой улицы, бороду задувает ветром на сторону.
С ним Леня. Следит во все глаза, как встречные здороваются с его папой: за руку или кивком, и то замирает, то светится весь. И тоже шагает вразвалку, степенно, как батя.
Ребятишек, ребятишек-то! Так хвостом и вьются за Пашей. Леденцы сосут, шмыгают носами.
Леденцами малышей, наверно, Паша оделил. Никого не оставил без гостинцев.
Раскланивается Паша с прохожими. Те останавливаются, расспрашивают его:
— И ты, Пашуня, здорово. В чистую вышел?
— Точно! — откидывал голову назад, мял бороду Паша. — Досрочно, согласно Указа. Милости прошу к нам вечерком. Примем, чем богаты.
Верку он приметил из-за ее шубки и пуховой шапочки с помпоном, каких у деревенских девочек не было.
— Чья востроглазка? — легонько, двумя пальцами взял ее за подбородок. — Ишь… струнка тоненькая!
— Я не струнка, — дернулась Верка. — Я, к вашему сведению, воспитанница Николая Ивановича.
— Теребова?
— Ну да… — Верка диковато взглянула на него. Притворяется, будто весел. Глаза у самого тревожные, тоскующие.
— Мы с вами, кажется, родственники, — добавила Верка.
— Точно! К вам и правлю.
— Батя, зачем? — тянул его Леня за рукав. — Домой лучше…
Пахнет от дяди Паши вином, но держится он уверенно, прочно и улыбается, кажет из бороды белые плотные зубы.
— Успеем, сынок, и домой. Зайдем вот по-родственному… Посидим, побеседуем чин по чину, к себе пригласим. Не чужие мы, свои!
Папа… Верку будто обожгло. К Лене вернулся папа. Его, ничей больше. Рос Леня, как обсевок в поле, а теперь — отцовский сын. «Сынок»… И ремень у него сейчас с пряжкой, и форма — папа подарил.
Верка запрокинула вверх голову, чтобы встретиться взглядом с дядей Пашей, проговорила неожиданно просительно:
— Идемте. На привальную. Не чужие ведь, свои. Мы остановились у Домны.
Маня застеснялась, в избу не пошла.
Тетя вышивала. Подоткнув подол сарафана, бабка Домна замывала пол, облитый пойлом.
— И вас с приездом, — многозначительно отозвалась тетя на приветствие Паши. Вежливо, но сухо пригласила, указав на стулья: — Присаживайтесь.
— Пашуня, ты ли это, кормилец? — запричитала Домна, вытирая руки о подол. — Переменился-то до чего, царица небесная! Седина в бороде… господи!
Паша аккуратно снял пальто и шапку. Он в сером, наверно, не раз стиранном пиджаке с мятыми лацканами, брюках-галифе из грубого сукна, пожалуй, еще фронтовых. Он смущенно поправлял рыжие, торчмя стоящие волосы, смущался собственного роста, больших, широкой кости, загрубелых рук, которые не знал, куда девать, и живо напомнил Верке Леню, который так же вот был застенчив в чайной при первой встрече.
— Тетя, не беспокойтесь, пожалуйста, я согрею самовар, — сказала Верка. Тетя не тронулась с места и по-прежнему с преувеличенным усердием вышивала.
Паша присел на краешек стула, вынул из кармана бутылку вина с яркой этикеткой.
— Облепиховое, настойка. Из самой Сибири привез. Есть там такая ягода — облепиха. А Николай Иванович где?
— В правлении заседает, план сева обсуждают. — Тетя сняла очки, отложила вышивку. — Приехали мы сюда, Павел, как на дачу. О-ох, дача! Покой дорогой!
Паша на расспросы отвечал скупо: да, был в Забайкалье, работал на золотых приисках.
Леню не могли усадить за стол. Жался у порога, не спускал с отца счастливых глаз.
За Пашей Верка ухаживала, как гостеприимная хозяйка: подкладывала сахар в стакан, ближе подвигала закуску.
— Э-эх, струнка! — проговорил Паша. Только ей одной — тихо-тихо.
Вино разлили по рюмкам. Первую, дополна, — дяде. По обычаю.
— Сегодня я без вина пьян. — Крохотная рюмка дрожала в огромной, поросшей рыжим волосом руке дяди Паши. — Верите, на колени встал, как березы наши показались.
Тогда и вошли дядя и Родион Иванович. Потапов потемнел при виде Паши за столом, на скулах вспухли желваки, глаза сузились, и с порога он повернул обратно.
Вино плеснулось у дяди Паши на скатерть.
— Родич дорогой… — Паша порывисто подался дяде навстречу, протянул руки.
Николай Иванович, словно не замечая его, развязал не спеша ушанку, стряхнул с нее снег, разогнул воротник пальто, окинул цепким взглядом избу: тетю и бабку Домну за столом, Верку, размешивавшую ложечкой сахар в стакане Паши, — и левая бровь его надломилась.
— Здорово… родич! — усмехнулся он одной щекой.
— Я уж подумал, руки не подашь. — Кровь бросилась Паше в лицо. — Вон Потапова перекосило: знать, не гадал свидеться. И из тюрьмы люди выходят…
Дядя обронил хмуро:
— Ну, ты! Чем хвастаешь?
Леня втянул голову в плечи. Мучительно, с пристальным вниманием разглядывал он катанцы. Катанцы были измазаны конским навозом. Леня вздрогнул, подобрал ноги под лавку.
— На прямоте — спасибо… — сухие, побелевшие губы повиновались Паше с трудом. — Спасибо! По-родственному у нас получается. Пойду я…
— Погоди, — остановил дядя. — Куда убегаешь? Побеседуем. Как ты желаешь, по-родственному.
Леня зажал рот варежкой, опрометью бросился из избы.
Неловко, боком вылезла из-за стола Домна и чашку чаю оставила недопитую. В сенях хлопнула дверью — нарочито громко.
Дядя грел озябшие пальцы, обхватив стакан с чаем, и молчал.
Верка строптиво вздернула прямой носик, ушла в горницу. Дверь притворила спиной. Там спрятала лицо в ладони, ее била дрожь. Так было тепло, хорошо, и какой холод принес дядя! Она поеживалась, кусала губы.