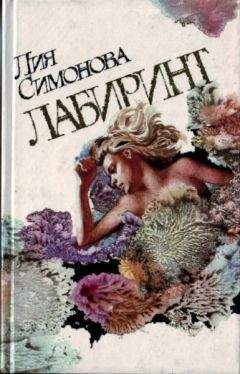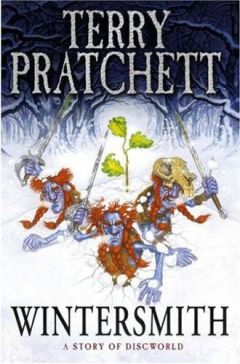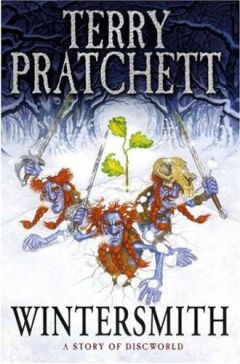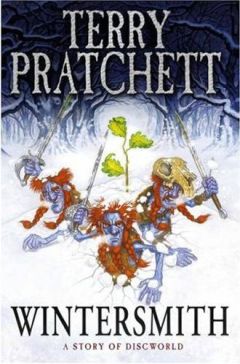— Кирилл уехал. — Женщина помолчала, потом совсем тихо пояснила: — К отцу. — И, желая, наверное, чтобы её не беспокоили больше, добавила: — Вернется через неделю. А кто спрашивает?
Вика так взвинтила себя, что даже не уразумела вопроса, опустилась на ступеньку у двери, зажала виски пальцами и тихо заплакала. Никогда еще она не окапывалась в таком глупом, безнадежном положении и не испытывала такого унижающего бессилия. Надо было, пока её не засекли тут, убираться восвояси. Домой! Домой! Куда же еще? Не в подвал же идти без Дикаря, чтобы Рембо поставил ее на хор, пустил по рукам мерзавцев… Вика внутренне шарахнулась от этой дикой мысли и впервые ощутила себя беззащитной, не со щитом, а на щите…
Она бежала домой и все еще верила, что найдет отца спящим у телевизора, но чудес, как известно, не бывает. Мать в несвежем, наполовину расстегнутом халатике, с нечесаными волосами, терла на кухне плиту так старательно, как будто рассчитывала под слоем жира и гари обнаружить не эмаль, а платину. Она подняла на Вику красные от слез, совершенно отсутствующие, словно душа покинула их, глаза, а ее и так бесцветное лицо было и вовсе мертвенно бледным.
— Где отец? — сразу оценив состояние матери, спросила Вика.
— Уехал, — односложно, потухшим голосом сообщила мать.
— Куда?
— Сказал, в командировку.
— Надолго?
— На неделю.
На неделю!.. На ту самую проклятую неделю, когда Кирилла не будет дома. Надеяться не на что, рухнул карточный домик. Ненависть захлестнула Вику, она почувствовала, что готова на любое злодейство. Она еще всем им покажет! Попомнят они ее!..
— Что ж он за ужином не объявил, что уезжает?
— Он зашел за мной на работу, по дороге объяснил, что срочная командировка, потому и идет домой пораньше, и тебе не хотел, наверное, портить настроение.
— И не попрощался со мной?
— Он заходил к тебе в комнату — может, записку оставил? — Мать едва держалась.
— Так ты ложись! — раздраженно крикнула Вика. — Из-за этого козла переживать — переживалки не хватит!..
Мать вдруг по-детски зарыдала в голос и ткнулась носом в Викино плечо.
— Ладно, не хнычь, — обняла ее Вика, словно она была старшей, — Москва слезам не верит. Все равно никто не пожалеет, только порадуются. В наш жестокий век надо быть выносливым.
— Он тоже так говорит: «Побеждает сильнейший!» — а я, в отличие от вас, никак не загрубею душой.
Вика проводила мать в спальню, раздела и уложила, словно малого ребенка, под одеяло и долго еще слышала в своей комнате, как мама ворочается с боку на бок, тяжело вздыхая.
Запаска от отца лежала поверх дневника: «Дочёк! Я задремал, а ты дала деру. Скоро вернусь, не скучай. За мной презент. Твой папка».
Ишь, ублажает презентом! Знает кошка, чье мясо съела…
Дневник, словно его не трогали, лежал на том месте письменного стола, где Вика так неосмотрительно его оставила. И все же она не сомневалась, что отец, не склонный к щепетильности и до крайности любопытный, не преминул заглянуть в ее записи. Одна надежда, времени у него, судя по тему, было в обрез. Но неприятное ощущение, что не, пусть даже отцовские руки порылись в ее душе, осквернили все самое сокровенное, не давало покоя. Хотелось куда-нибудь зашвырнуть дневник, сжечь его, будто это освобождало от прошлого и стирало все в памяти.
Вика с отвращением взяла дневник в руки, полистала иго и попробовала шпионскими глазами отца прочитать те странички, которые ей больнее всего было отдавать на праведный суд.
«…Да, я влюблена в себя. Я без ума от своей внешности и ума. Я считаю себя выше других. И что же?..
Жалость и совесть — для меня не существующие чувства, так, прихоть, мимолетные ощущения…
Я ломаю и крушу все вокруг себя, потому что все, что нас окружает, стеклянное. Издалека блестит, а вблизи грязное и хрупкое. Этот стеклянный мир непобедим, его будут разбивать, а он снова и снова станет возрождаться.
На глазах таких, как я, молодых и когда-то веривших, втаптывают в грязь все самое драгоценное, и мы, молодые, барахтаемся в этой грязи и утопаем в ней. Иногда так хочется остановить карусель, спрыгнуть с искусственной лошадки и упереться ногами в незыблемую твердь — но где она? Вокруг трясина, которая затягивает все глубже и глубже. Чем жить? Легче стать жертвой СПИДа или уколоться и уйти навсегда…»
«Он и сам такой, самовлюбленный и безжалостный, — подумала Вика. — А про СПИД и наркотики он не поверит, слитком мы с ним любим себя, чтоб подвергаться опасности. Сразу усечет, что я малость красуюсь, знает же, что я во всем на него похожа».
Дальше шла запись, которую Вика сделала еще осень ночью после дискотеки.
«После дискотеки мы пошли с ребятами погулять. В парке остановились покурить, и я увидела, как за деревьями шестеро парней насилуют двух девчонок. Господи, какие они до того были расфуфыренные! В кожаных костюмах, в высоких сапожках, с прическами «я у мамы дурочка». Теперь они валялись в грязи и истошно орали. Я почувствовала, что К. смотрит на меня, прикинулась испуганной, но не выдержала и расхохоталась. Жалость вырвана из моего сердца, я смеялась от радости, и это чувство было настоящим. Если эти пигалицы не имеют своих парней, которые защитят, зачем лезут на дискотеку. Хотели подцепить кавалеров, вот и напоролись на то, что искали… Парни смылись, а девки, дуры, барахтались в грязи и ревели. Я потащила ребят от греха подальше, испытывая ничего, кроме брезгливости…
Меня вообще нисколько не трогают другие люди. Я смотрю на всех сверху: «Эй, чего это вы там бегаете? До меня не добежите». Я думаю, что могу убить, ограбить, растоптать, если меня разозлят. А злюсь я почти всегда, меня раздражают даже самые мелочи: кто-то прикоснется ко мне случайно, у кого-то на пол упадет ручка, кто-то придет в такой же шапочке, какую ношу я, — и меня всю трясет. Я делаю невинное личико и мило улыбаюсь, а верят мне или нет, меня не интересует.
Хорошо я чувствую себя только в компании таких же, как я, потому что им, как и мне, на все и на всех наплевать. Я вижу себе подобных и счастлива».
«Тут я не ангелочек, но, с точки зрения папана, особого криминала нет, — утешила себя Вика. — Насиловали не меня, я без сопровождения не хожу, не дура!»
Вика торопливо листала странички последнего времени, после начала учебного года.
«Когда я думаю о нашем прошлом, я чувствую себя обманутой. Сталин, Берия, Брежнев — все это осколки разбитой вазы. Но эти осколки застряли в каждом из нас, как кусочек льда, оставшийся в глазу Кая по мановению Снежной королевы. Теперь все валят на партократов и бюрократов. А кто они? Да это же мы. Это все мы — такие же, ничуть не лучше. Бедняга Горбачев! Пытался сдвинуть повозку, в которой мы окопались. Господи, как мне его жалко! Хотел сдвинуть недвижимое! Или только прикидывался?..
Ненавижу весь мир, всю эту ложь, ханжество, обман. Ненавижу родителей, класс, учителей и необходимость везде и всюду казаться не тем, что есть на самом деле. Пусть все идет к черту!
Жизнь сделала меня агрессивной. Неужели взрослые не знают, как нам, подросткам, трудно жить? Хочется на кого-то равняться, кого-то уважать — но кого? Господи! Гали бы мой отец мог понять, какая горечь в моей душе, оттого что он учил меня любить и верить. И все рухнуло. Как это озлобляет!
И хочется ненавидеть всех. И партию, и комсомол, и пионерию, и демократов, и весь этот мир с его неразрешимыми проблемами…»
«Пусть почитает. Ему на пользу. Пусть знает, что и он приложил руку, чтобы я стала такой, меньше станет воспитывать», — зло думала Вика, отыскивая и от волнения не находя те строки, которые ни в коем случае не следовало читать отцу. При мысли, что ему открылась главная ее вина, Вика чувствовала, что холодеет.
«Когда я вспоминаю, как К. кладет мне голову на колени, меня охватывает дрожь. Даже если его нет со мной, я чувствую его руки и губы и пропадаю. Никогда не помню, как сползают с меня лифчик и трусики, я погибаю…
Мне нравится сознавать себя падшей, канувшей в грех, заблудшей. Почему я должна отказываться от наслаждения, если это единственное настоящее, что жизнь пока еще не осмелилась отнять у нас?..
Если К. переметнется к другой, я не смогу вычеркнуть его из сердца. Он прячется от меня, а мои глаза невольно тянутся в ту сторону, где я надеюсь найти его. Без него — пустота, исчезают краски жизни и все мысли крутятся вокруг «единственного объекта». Почему он не предупредил меня, когда я действительно была еще наивной дурочкой, что все это кончится и ничего путного для меня из этого не выйдет? А может, он прав, когда убеждает меня, что он нужен мне только для того, чтобы валяться с ним в постели? Не знаю, ничего не знаю. Спросила тут у отца: счастлив ли он в любви? Он замялся и стал говорить о семейном благополучии. Благополучие — это как расшифровать? Быть снабженцами друг для друга. А любовь искать на стороне, как отец? Или любви не существует, только физическое удовлетворение, секс?