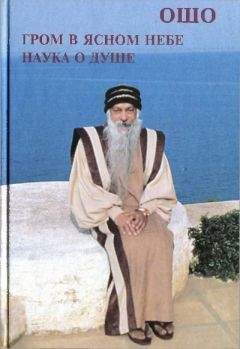Кама и Алик просидели возле меня до поздней ночи. Вообще мне показалось, что этот день прошел очень быстро. Только что было утро, и вдруг я смотрю — все укладываются спать. Удивительно быстро прошел этот день.
На следующее утро все проснулись очень поздно. А я так вообще позже всех. Проснулся и ничего не могу сообразить — где я, и почему это вокруг меня все они собрались — Кама, Алик и Сабир, и у всех лица какие-то испуганные. Ничего не могу понять! Сабир мне говорит, после того как я вспомнил, что я еще в этой проклятой пещере:
— Ты, пожалуйста, извини меня за вчерашнее, я тебя очень прошу, извини!
А Кама ему на это:
— Ни за что он тебя не извинит, посмотри, что ты сделал с человеком, ты просто отвратительный тип!
— Лучше уйди отсюда! — это Алик ему сказал. — Уйди сейчас же или я тебя ударю!
А Сабир как будто их не слышит, все твердит одно и то же:
— Извини. Я тебя очень прошу — извини!
Как-то глупо все это выглядело. Для чего ему мои извинения, спрашивается? И вдруг я увидел, что Сабир плачет. Никто еще не видел, чтобы он плакал. Никогда такого не было. А тут сидит и плачет, и всхлипывает при этом. Я тоже очень расстроился, даже вспоминать противно, до чего расстроился, говорю, ладно, перестань плакать, только в следующий раз, прежде чем распускать руки, подумай! А что я ему еще могу сказать?
А Алик все свое — уйди, а то хуже будет! И Кама напоследок его отвратительным типом обругала. Он встал и ушел. Когда он уходил, вид у него был очень несчастный. После его ухода Алик и Кама его долго ругали, а у меня уже против него никакой злости не было. Я им этого не сказал, а то бы они, наверное, и на меня разозлились бы, но злость у меня вся прошла, и ничего с собой я поделать не мог!
Мы втроем лежали рядом и молчали, все какие-то вялые стали, наверное, от голода, никто даже головы не поднял, когда подошел Сабир с гранатой в руке и попросил, чтобы мы встали и перешли в комендантскую. Он объяснил нам, что попытается взорвать плиту у входа. Я шел, а меня качало из стороны в сторону, как будто я пьяный. Хорошо, Алик и Кама поддерживали меня. Как только мы зашли в комендантскую, Алик сразу же остановил нас и вернулся к Сабиру. Хоть они и в ссоре, но Алику, кажется, не хотелось, чтобы Сабир один взорвал гранату.
Мы с Камой сидели в комендантской и ждали, что будет дальше.
Здесь было так тихо и спокойно, казалось, что эта комната находится где-нибудь в учреждении и хозяин кабинета войдет с минуты на минуту. Я еще раз посмотрел на надпись рядом с красной ручкой — после того, как я прочел разговорник, я уже знал, что означает слово «Tod» — смерть. Оно очень часто попадалось в разговорнике. Это и еще Erschiefien — расстрел. Я его тоже хорошо запомнил, потому что эти два слова там попадались почти на каждой странице.
А потом раздался страшный взрыв, дверь в комнату была плотно прикрыта, а после взрыва со страшной силой распахнулась и ударилась об стенку. И свечи все разом потухли.
Алик сказал, что Сабир, после того как оттянул и повернул ручку гранаты, прислонил ее к плите, а сам вместе с Аликом отбежал сразу же и спрятался за бронетранспортером. Только пользы этот взрыв никакой не принес — в нескольких местах он только пол поцарапал и поверхность плиты. Вот и все!
Мы еще долго просидели в комендантской. Все предлагали что-то, но все просто так, впустую, нам уже стало ясно, что дела наши очень плохи. С Сабиром все незаметно стали разговаривать, но он уже не был у нас главным. Нам уже и не нужен был главный, даже если бы у всех с Сабиром были бы прежние отношения.
Мы встали и ушли из кабинета коменданта.
Очень хотелось есть. Никто об этом не говорил, но есть хотелось ужасно. В голову только и лезли что мысли о еде. Ни о чем другом думать нельзя было. Все лежали, каждый на своей постели, и только об этом и думали. Хорошо, хоть я тот разговорник нашел, а то вообще с ума сойти можно было. Все лежат молча, и вокруг такая тишина, как будто, кроме нас, никого больше на свете нет из живых людей. И еще скелеты на нервы действуют, я попытался представить себе, что когда-то они были живыми людьми, но у меня ничего не получилось.
Я листал разговорник и удивлялся, до чего же тогда странные времена были. Почти на каждой странице жуткие угрозы. И почти за все одно наказание — смерть! Даже читать странно: «...подвергнуты расстрелу», «...подвергнуты смертной казни». Это, наверное, для разнообразия: в одном месте — расстрел, а в другом — смертная казнь. Или Tod, или Erschiefien. А может быть, если смертная казнь, то это какой-то другой способ убивать человека: не расстреливать, а вешать или рубить голову. И самое главное — за что?! Если призадуматься, с ума же сойти можно: за укрывательство коммуниста или военного — смерть. То же самое за связь с партизанами. За отказ ехать в Германию. За то, что слушал советское радио. Значит, если человек спрятал в своем доме раненого товарища, то его расстреливали? А что же ему оставалось делать, если не прятать? Полагалось пойти и выдать, что ли? Неужели люди, которые составляли этот разговорник, не понимали, что нельзя человека за такие вещи убивать? Ведь в нем почти на каждой странице смерть обещали за все хорошее, что мог сделать человек. За все смерть!
Я никак себе не могу представить, что такое смерть. Знать-то знаю, конечно, знаю, что все люди умирают, но никак не могу поверить, что и я когда-нибудь умру. Что все вокруг останется, как было, а меня уже не будет. Начинаю себе все это представлять — получается, пока не дохожу до места, где я должен умереть... Не могу поверить, и все! И еще я никак не могу представить, что когда-то меня не было. Тоже знаю, что было такое время, а представить себе не могу. Странно.
Кама ко мне придвинулась, обхватила мне голову, как маленькому, и спрашивает:
— Тебе очень больно?
Я ей покачал головой, что нет. Говорить мне все-таки трудно, челюсти болят, когда я открываю рот.
— Мы все здесь умрем, — сказала Кама. — И никто никогда нас не найдет, — сказала, а лицо у нее в это время было очень серьезное, как будто она окончательно поняла, что нас ничто не может спасти.
А потом мы проснулись и никак не могли определить, утро это, или ночь, или даже, может быть, уже день. Потому что Кама забыла завести часы. Но в общем нам уже это было безразлично. Мы уже почти и не вставали. Единственно, что хорошо, это то, что уже нам не хотелось есть. Совершенно чувство голода пропало. Мы о еде даже не вспоминали. Только слабые все стали очень.
Больше всех Кама ослабела. Она или спала, или лежала молча, с открытыми глазами. Мне ее было очень жалко. Я вот только теперь понял, что ее люблю. Я раньше догадывался об этом, но только здесь окончательно понял это. Я до Камы очень часто влюблялся. Стоило мне в кино пойти или в театр, так я обязательно там в кого-нибудь влюблялся. Правда, ненадолго, чаще всего на несколько дней, а бывало, что и на один день всего. И в книгах я очень часто в кого-нибудь влюблялся. Больше всего мне нравилось любить королеву Марго или госпожу Бонасье. О них очень хорошо мечтать было. Причем когда я мечтаю, я о себе думаю в третьем лице, никогда не мечтаю: «Я пошел и спас ее», а почему-то: «Он пошел и спас». Ничего поделать не могу, мечтаю о себе, но почему-то только в третьем лице. И влюбляюсь всегда в третьем лице. Это, конечно, курам на смех, но я однажды даже в Медузу Горгону влюбился. Вот честное слово! Влюбился, и все.
А сегодня понял я окончательно, что все это были пустяки по сравнению с моей любовью к Каме. Я даже ей хотел сказать. И сказал бы — мне не было почему-то стыдно ни Алика, ни Сабира. Но вдруг я вспомнил свое любимое стихотворение и решил прочитать его Каме. Она послушала его до конца и ничего не сказала. Я спросил, понравилось ли оно ей. «Ничего. Ничего, — говорит, — стихи!» Но, по мне, лучше бы она сказала, что они ей не понравились, чем это «ничего». А с другой стороны, ведь совсем необязательно, чтобы это стихотворение нравилось всем! Только я почему-то думал, что Каме оно должно понравиться.
Все-таки Сабир молодец! Он не меньше всех нас ослабел, и все-таки он один старается хоть что-то сделать. Он попросил, чтобы мы все ушли в укрытие, потому что попытается еще раз взорвать эту проклятую плиту. На этот раз взорвет сразу несколько гранат. Мы пошли в кабинет коменданта, и на этот раз дорога показалась нам очень длинной. Когда мы туда добрались, долго не могли отдышаться. Как будто не по ровной дороге шли, а забирались куда-то в крутую гору. Алик и на этот раз хотел пойти с Сабиром, совсем уже собрался, но вдруг улыбнулся очень виноватой улыбкой и сел. Стало понятно, что у него просто нет сил.
Взрыв был точно такой же, как и в прошлый раз. Потом оказалось, что в связке, из шести гранат взорвалась лишь одна граната. Остальные, наверное, были испорченные. И опять без всякой пользы. И не только без пользы, а наоборот.
О том, что случилось несчастье, мы догадались не сразу. Сперва мы сидели в комендантской и ждали Сабира, даже не знаю, сколько времени прошло, а его все не было. Кажется, мы все задремали. Потом я удивился, что его все нет, и вышел из комнаты наружу. Кама и Алик за мной пошли. Сабира нигде не было видно. Тогда мы поняли, что с ним что-то случилось.