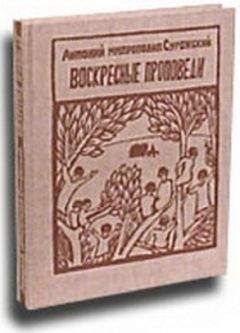— Что знаю?
— Мне никак не выучить…
— А ты пробовал?
— Не, — сказал Романенко.
По его открытому лицу было видно, что ему и врать-то лень.
Татьяна Ивановна нервно прошлась по классу. Когда она проходила мимо Романенко, он с насмешливой вежливостью посторонился.
— Я совершенно не могу представить себе твоей психологии… Для чего же ты ходишь в школу?
— Батька велит…
— Ну, а ты объяснял ему, что не хочешь учиться?
— Сколько раз…
— А он что?
— Дерётся.
Ломов предполагал, что в классе засмеются. Но этого не случилось. Видно было, что парень надоел всем до смерти.
— Садись, — сказала Татьяна Ивановна.
Вздохнув, Романенко пошёл на место. Он плюхнулся на парту, как человек, рубивший дрова три часа кряду и, наконец, получивший возможность передохнуть.
Несмотря на то, что Татьяна Ивановна вызвала его явно преднамеренно — это Ломов понимал, — она долго ещё не могла прийти в себя, и в классе царила та тягостная атмосфера, когда ученики чувствуют раздражённость учителя, знают, что они не виноваты, и чувствуют себя виноватыми.
Опытный, умелый преподаватель вызвал бы для контраста лучшего ученика и обрёл бы душевный покой в толковых разумных ответах. Но Гулина, словно боясь, что её могут заподозрить в подстроенности урока, продолжала вызывать кого попало. Она уже понимала, что делает нехорошо, видела даже удивлённое и огорчённое лицо старосты, Нади Калитиной, но не могла остановиться.
Она презирала сейчас этого маленького щуплого директора, который сидит на последней парте и даже ничего не записывает, а потом выбежит из класса и донесёт завучу, и завуч монотонно, жестяным голосом станет рассказывать, какая она, Гулина, отвратительная учительница, и директор будет сокрушённо поддакивать.
Она так ясно представляла себе всё это, что после звонка не пошла в учительскую…
Вечером к Ломову приехал заведующий конторой «Заготзерно» Корней Иванович Романенко. Сидя в комнате, Ломов сперва услышал ржанье жеребца, затем тихий голос Поли в палисаднике и топанье ног на крыльце. Хлопнула входная дверь, и кто-то громко, весело спросил:
— Хозяин принимает?
На пороге комнаты вырос, подпирая притолоку, в задубеневшем брезентовом плаще, в резиновых сапогах и военной фуражке, плотный мужчина с крупным мясистым лицом.
— Ну и зловредная баба! — сказал он, указывая на Полю, которая вошла вслед за ним в кухню. — А всё почему?.. Директора сменяются, а она остаётся. Романенко, Корней Иванович… Может, слышали?
Он произнёс это подряд, одним и тем же тоном, протягивая Ломову руку и улыбаясь.
— Садитесь, пожалуйста, — попросил Ломов.
— Может, неудобно, что я к вам на дом? Да у нас тут на селе служба — по законам природы: от росы до росы…
Романенко сел на узкий деревянный диван, с трудом разместив около себя длинные ноги.
— Я так полагаю, что вам лет двадцать пять? — спросил он.
— Примерно, — ответил Ломов.
— В двадцать пять лет я ходил в лаптях. Между прочим, должен заметить, — из хорошего липового лыка неплохая обувка для деревенского обихода. Куда лучше наших резиновых тапочек. Только что слава у этих лаптей худая. Верно?
— Мне трудно судить, — сказал Ломов, — Я их никогда не видал.
— Нынешняя молодёжь признаёт полуботиночки. Моего обалдуя в лапти не обрядишь… Вы моего хлопца знаете? — спросил Романенко.
— Сегодня познакомился.
Романенко подождал, выскажет ли директор своё впечатление от этого знакомства, но Ломов молча смотрел на него. Гость нетерпеливо покашлял и с видом человека, решившегося говорить всё начистоту, сказал:
— Ясно. Теперь такой вопрос. В семнадцать лет — погибать хлопцу?.. Наше время сурьёзное — без образования никак нельзя.
Директор всё ещё молчал, и Романенко начал раздражаться.
— Один сын, — сказал он. — В мои года другого заводить поздно. Врать не буду, он свою пользу понимает из-под ремня. Надаёшь по заду — войдёт в голову. А душа у него хорошая. Если говорить по совести, то я душу на образование не променяю. Верно?
— А почему бы вам не забрать его из школы? — спросил Ломов.
— То есть, как это забрать? — нахмурился Романенко.
— Учиться он не хочет, двоек у него много, аттестата ему, вероятно, не осилить. Зачем же зря мучить парня? Пошёл бы работать…
— Ясно, — сказал Романенко. — Это мы тоже в газетах читали. Труд пастуха почётен. Однако вы, товарищ директор, в пастухи не подались?
— Нет, — улыбнулся Ломов. — Лично меня эта профессия не привлекала.
Романенко громко расхохотался и крикнул:
— Поля! Дай попить!..
Поля принесла воду; он выпил стакан до дна.
— Смотри, пожалуйста! Раньше из ковша хлебали, а нынче завела посуду… Ты зачем моего хлопца веником огрела?
— А чтоб не баловался куревом.
— На то есть отец с матерью. А рукам воли не давай.
— Я не учитель, мне можно, — сказала Поля.
Она вырвала у него из рук стакан и вышла вон. Романенко встал, смешно покрутил головой; лицо у него было добродушное.
— Вот и познакомились. Если что надо для школы, чем можно — помогу. Учтите, — я в родительском комитете. Нина Николаевна говорила, что у вас есть мечта организовать питание для детишек.
— Безобразие! — сказал Ломов. — Ребята проводят в школе по полдня и не могут выпить стакана чаю. В младших классах доходит до головокружения. Неужели трудно привезти хлеба, пирожков?..
— Да, господи! — сказал Романенко. — Об чем речь? Дворцы строим, а тут — пирожок!..
Он пожал руку директора, задержал её на мгновенье в своей и, пригнувшись в дверях, вышел. Из кухни донёсся его смех, хлопнула дверь, заржал жеребец у крыльца, но стука копыт не раздалось.
Через полчаса к Ломову прибежала Нина Николаевна. С тех пор, как он поселился здесь, она не бывала в этом доме. Сейчас она вошла, сохраняя на лице то сухое официальное выражение, которое носила в учительской.
— Я предполагала, — сказала Нина Николаевна, остановившись посреди комнаты, — что решения директора должны быть согласованы со мной. Если учитывать, конечно, что я продолжаю быть заведующей учебной частью.
Он растерянно посмотрел на неё, поднялся с дивана и застегнул воротник рубахи.
— А разве я…
— Вы собираетесь исключить из школы ученика десятого класса, абсолютно не представляя себе всех пагубных последствий этого поступка. Мы учили мальчика девять лет. Коллектив несёт полную ответственность за его воспитание…
Сквозь раскрытую дверь она увидала тумбочку во второй комнате, полотенце на гвоздике и изголовье никелированной кровати. Всё это было расположено в том же знакомом порядке, что и при Алексее Фёдоровиче.
У неё зашумело в ушах и сильно застучало сердце. И, чтобы перекричать этот стук, она не стала слушать, что говорил Ломов. Ненавидя его за то, что он живёт в этом доме, Нина Николаевна сказала:
— Вам не дорога́ честь школы! Вы не знаете её традиций…
Вероятно, у неё дрожали губы, потому что лицо Ломова стало участливым.
— Да я ничего не собирался делать без вашего ведома, — сказал он совершенно искренне. — Я только убеждён, что честь школы и её традиции не украшаются Петей Романенко.
— Время покажет, кто украшает школу и кто её уродует!
Сказав громким голосом ещё несколько колкостей и обретя в этом спокойствие, она ушла.
«Сам виноват, — с тоской думал Ломов. — Не умеешь себя поставить, вот на тебя и орут…»
Увидели бы институтские ребята, друзья по комитету, как Серёжка Ломов, которого все они считали принципиальным и дельным парнем, позорно теряется в присутствии своего завуча. Наверное, они сказали бы что-нибудь вроде того, что новое всегда борется со старым, что именно в этом и заключается диалектика нашей жизни, а Митька Синицын с филфака, размахивая длинными руками и переполняя комнату гудящим голосом, произнёс бы речь о том, как должен вести себя герой нашего времени.
Лёжа в постели, в темноте, Ломов стал придумывать речь против себя, вроде бы её произносил Митька Синицын. Там было и угрожающее раздвоение личности, и боязнь трудностей, и потеря принципиальности…
«Дурак ты, Митька!» — рассердился вдруг Ломов и вскоре заснул.
4Оказывается, нисколько не легче, когда знаешь, как называются твои собственные недостатки.
Пошли дожди. Из мутного неба лилось не переставая. Задувал ветер, холодный и сырой.
Как Поля ни старалась, а к концу дня полы в школе были изгвазданы грязными сапогами. Мокрые курточки и пальтишки ребят висели в классах на вешалке; они просыхали за время уроков, и от этого в классе стоял кисловатый запах вымоченной шерсти.
Пока Ломов находился в школе, время шло быстро. Он давал свои уроки, подписывал ведомости, банковские чеки, прикладывал к разным бумагам печать, которую носил в кармане в круглой металлической коробочке, отправлял отчётную документацию в Курск, в Поныри, звонил по телефону, — словом, занимался всем тем, чем положено заниматься директору школы.