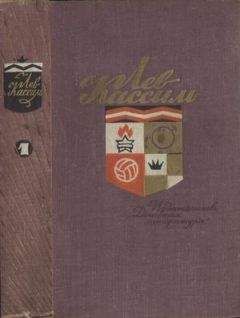Мала куча, а…
В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало…
Потом взяли Перемышль. Лабазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам, неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханьем и перегаром денатурата. Словно торжество подогревалось на спиртовке.
Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь.
Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «ура». И было что-то гнусное в этой горланящей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей… Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ «кучи мала», когда тебя, беспомощного, плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик…
Однако все обошлось. Только ночью отца — доктора — вызывали спасать какого-то опившегося денатуратом «патриота».
Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение. Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал… отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут» было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками. Они изображали хоругвь. А Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из «Нивы» портрет императора Николая Второго, самодержца всероссийского.
Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию. Но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился.
Вскоре пригнали в Покровск первые партии пленных. Это были австрийцы. В серых кепи, в гетрах и толстых невиданных ботинках, ободранные, запуганные, толпились они у волостного правления. Плотная толпа любопытных беззлобно рассматривала их. «Австрияки!» — кричали мальчишки. Инспектор повел нас насладиться назидательным зрелищем — поверженного и плененного врага. Воинственная рогатка инспекторской бородки раздвинула толпу. Мы прошли вперед. Голодные смуглые лица покорно глянули на нас. Это и был «неприятель», настоящий, ненарисованный, живой неприятель, тот самый неприятель, под давлением превосходных сил которого наши войска, как пишут в газетах, отступили и т. д. Несколько секунд мы еще пыжились, искусственно нагнетая ненависть, но тут же бросили эти попытки. Ничего, кроме любопытства, не оставалось у нас к чернявым пленникам: мадьярам, венгерцам, чехам…
Инспектор плавно и уверенно, как смотритель музея, рассказывал окружающим об Австрии, о ее флоре и фауне. Вдруг один из пленных вежливо обратился к нему по-русски, но с каким-то акцентом.
— Прошу у пана звинения, — заокал он, — обо зубры у нас не водятся…
Инспектор смутился.
— Ну, как сказать, иногда попадаются все же, — сказал инспектор просительно.
— Во зверинце, — мягко сказал пленный.
В это время за спиной инспектора Степка Гавря успел променять булку с воблой на пару австрийских погон. Пошла бойкая торговля. Но оглянувшийся инспектор велел тотчас прекратить этот, по его словам, непристойный торг, намекнув, что в кондуит можно попасть и за сношение с неприятелем.
На уроке истории учитель говорит:
— Турки, как и все мусульмане, отличаются бесчеловечной жестокостью, кровожадностью и зверством. Их священная книга Коран учит убивать христиан без всякой жалости, ибо, чем больше «неверных» христиан убьет турок, тем больше грехов ему простится. Но в сегодняшней войне турок перещеголяли в зверствах культурные немцы. Они, немцы, варварски разрушили…
Класс оборачивается и укоризненно смотрит на Куфельда: Куфельд — немец. Класс возмущенно смотрит на Реклинга: Реклинг — тоже немец. Класс грозно смотрит и на Крей-Виркеля, на Фрицлера… Крейберг, Виркель, Фрицлер — все немцы. Враги! Неприятель в классе!
— А евреи? — спрашивает вдруг хитрый Гешка Крейберг. — А евреи? Правда, говорят, тоже кровожадные, Кирилл Михалыч? И продают Россию…
Теперь весь класс смотрит на меня. Я краснею так мучительно, что мне кажется, будто хлынувшая в лицо кровь уже прорвалась сквозь кожу щек наружу.
— Это не относится к уроку, — отвечает учитель. — Сегодня мы говорим не о них.
Во время перемены классная доска — эта черная трибуна и вечевой колокол — покрывается крупными надписями: «Бей немчуру!» «Фрейберг — немец, перец, колбаса…» «Все жиды — изменники».
Следующий урок — закон божий. После звонка приходит, как всегда перед этим предметом, инспектор. Он подходит к моей парте.
— Язычники, изыдите! — кричит инспектор. — Дежурный, изгони нечестивых из храма!
Я с немцами покидаю класс.
Немцев не приняли в нашу войну. Их не допустили в гимназическую армию. Гимназия воюет с лютеранской школой. У нас своя армия, у лютеранской — своя. Бои происходят три раза в неделю на Сапсаевском пустыре. Обе стороны располагают земляными укреплениями, фортами, траншеями, флотом, свободно плавающим по сапсаевской луже, бабками, начиненными порохом, рогатками и деревянными мечами. Мартыненко (Биндюг) — наш главнокомандующий. У немцев есть даже настоящий Вильгельм — Вилька Фиртель, сын шапочника.
На озере происходят ожесточенные сражения. Мы яростно играем в великое кровопролитие. Впрочем, вражда настоящая, и кровь тоже. Начальство знает об этой войне, но проявляет тактическое попустительство.
— Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени, — глубокомысленно твердили взрослые.
Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас…
Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтоб показать примерный бой.
Кругом было холодно и бело.
Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».
Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыханье на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.
Полковник сказал:
— Атака. Фигурки побежали, деловито произнося «ура».
— Все, — сказал полковник.
— Кто же победил? — заинтересовалась публика, ничего не поняв.
Полковник подумал и сказал:
— Те победили.
Потом полковник предупредил, глядя вверх:
— А сейчас ударит бомбомет.
Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.
Бой кончился.
Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик.
Лихо присвистывая и напрягая остуженные глотки, солдаты пели:
И-эх, если б гимназисточки по воздуху летали,
Тогда бы гимназисты все летчиками стали…
Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.
Забеспокоилась толстая начальница.
— Подпоручик! — крикнул полковник. — Это что за балаган? Отставить!
Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца моего одноклассника Карлушки Виркеля.
— Вот так вояка! — кричали гимназисты. — У нас в классе его сын учится. Вот стоит, немчик.
Молодой ефрейтор крикнул отстающему Виркелю:
— Ей, Франц, подбери шванц!
Все захохотали. Виркель подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Публика смеялась. Карлушка стоял, опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу.
— Ужасно неуклюжий народ эти немцы! — сказала толстая начальница женской гимназии. — Твой отец ведь немец? — спросила она Карлушку.
— Мой отец русский солдат! — сказал Карлушка.
— Врет! — заорали гимназисты. — Немец он! — Мой отец солдат, — повторил Карлушка.