— Марина Яночка, еще на одну минуточку мою непокорную… Маржалета!
В голосе прозвучали наставительные нотки. Дочь ушла, видимо не дослушав наставления родительницы.
— Мама, я в школе, — сказала Маржалета.
— Я тоже в школе, — с достоинством ответила Надина Семеновна.
— Не пойду.
Массивная фигура Надины Семеновны поторчала некоторое время в проеме, и дверь захлопнулась.
— Продолжим, — сказала Марь Яна, поднимаясь со стула.
Она взяла свой стул, поднесла к двери и просунула в дверную ручку. В классе засмеялись.
— Не вижу ничего смешного. Рассказывай, Давыдова. Мы слушаем.
Алена опять вздохнула. Трудно было перестроиться на уроки. Сережка Жуков, как обычно, не слушал и даже не замечал того, что происходило в классе. Перед ним на столе лежала книга, он сидел, уткнувшись в нее.
— Сейчас бы прочитать хорошую книгу, — сказала Алена, имея в виду Сережку, но он не услышал ее.
— Что? — спросила учительница.
— Марь Яна, можно я прочитаю стихи?
— Об экономике ФРГ?
— Нет.
— Никаких стихов, Давыдова. У нас урок географии. Что с тобой? Не знаешь урока?
— Знаю, — сказала очень серьезно Алена, и было видно: знает.
В классе зашумели: «Пусть прочитает», «Читай, Давыдова!».
— Или лучше тогда отпустите меня с урока.
Она сказала это без вызова, без озорства, устало и печально.
Марь Яна внимательно посмотрела на девчонку. На какую-то долю секунды увидела на месте Алены Катьку и сразу поняла по интонации, что надо разрешить. Подумала с нежностью к своей младшей сестренке и к Алене: «Господи, с этими девчонками так легко наломать дров, так легко не услышать, что девчоночье сердечко бьется не в механическом, а в человеческом ритме».
— Ну, хорошо, Давыдова, читай, если иначе нельзя. Тиха-а! Тиха-а! В конце концов не каждый день нам предлагают стихи.
— «Признание в одиночестве».
Все притихли. Было что-то необычное в том, как озаглавила свои стихи Алена. Все ждали, что она прочтет.
— Жуков читает книжку, — сказала Алена.
— Жуков, убери книгу. Давыдова хочет прочитать свои стихи. Послушай и ты, пожалуйста.
— Да пусть читает, — сказал Сережа, нехотя пряча книгу в стол.
И наступила тишина. Сердце в груди Алены гулко билось, все громче, громче…
— «Передо мной бумажный лист трещит от чувств моих духовных, где каждый суффикс, словно свист, ломает строй стихов неровных. Чудак, он верит пустоте, которую я лью отныне, чтобы забыться вдалеке и жить одной в ночной пустыне, куда я часто ухожу, куя в груди своей металл, и я в себе враз нахожу чудесный мой сентиментал».
Хохот взорвал тишину недоумения, подбросил ребят над скамьями. Некоторые засучили ногами от удовольствия. Все были восхищены Аленой, тем, как она ловко сумела притвориться серьезной и взволнованной.
— Сентиментал! — восторженно всхлипывал Юрка Лютиков.
— Коровья тоска! Есть такая порода коров — сентиментальская. Честно!
— Симментальская, дурак!
— Лирика симментальской коровы, — сказал Валера. — Хи-хи!
— Га-га!
Алена и сама смеялась. Она не понимала, как это произошло. Зачем они смеются? Зачем она сама смеется? Она писала и прочла им серьезные стихи. Она высказала в них всю муку, которую невозможно нести в себе молча. Алене было смешно до слез. Она хохотала и вытирала слезы.
— Хватит, Давыдова, — сказала учительница. — Пойди погуляй.
— Я больше не буду.
Вместо признания получилась хулиганская выходка. Она сама предала свое признание и призвание — слишком долго ерничала, заигралась, зарифмовалась. Никто не заметил, что в этом стихотворении совсем почти не было нарочито уродливых поэтических фраз, а какие были, пришли в стихи сами. «Но ведь я чувствовала, чувствовала, — подумала Алена. — Мне же по-настоящему больно было и сладко от каждого слова. Почему же они не почувствовали?»
Лидия Князева пришла к концу уроков, чтобы встретиться с Аленой Давыдовой. Они вместе вышли на улицу. Пригревало солнышко, снег подтаивал, оседал. Огромные глыбы сбрасывали с крыш на тротуар. Они лежали вперемешку с кусками льда.
Алена любила это время, когда все начинало таять и с крыш сбрасывали снег. С их дома вчера весь вечер счищали глыбы снега и сбивали сосульки, скребли по железу. А утром дворник скреб под окнами, не давал спать. Но было приятно прислушиваться. Весна!
— Ты вела себя так вчера почему? — спросила журналистка.
— Так, — ответила Алена. Она не была расположена к разговору.
— Ты вчера довольно метко бросила тетрадкой в этого парня. Ты что… очень его не любишь?
Она засмеялась, приглашая Алену к откровенному разговору. Лидии Князевой было лет тридцать — тридцать пять, но голос у нее был какой-то старый, хриплый и смеялась она хрипло, вернее не смеялась, а мелко-мелко кашляла. И в конце, когда уже не хватало дыхания, гулко, болезненно откашливалась и набирала полную грудь воздуха для нового приступа смеха.
Алена прошла еще несколько шагов, не отвечая на вопрос, который считала необязательным, и остановилась.
— Спрашивайте, что вы хотели спросить?
— Идем. Я тебя провожу. По дороге и поговорим. Ты куда идешь?
— Я иду на крышу.
Лидия Князева не удивилась.
— И я с тобой пойду на крышу. День сегодня хороший, только по крышам и ходить.
Алена пожала плечами. Они долго шли молча.
— Я хочу попросить тебя почитать стихи, — сказала журналистка. — Ты ведь пишешь стихи?
— Да.
— Почитай.
— Я могу читать стихи только на крыше.
— Я думала: ты шутишь. Ну хорошо, пойдем на крышу.
Лидия Князева работала в отделе писем. Она считала этот отдел очень удобным в творческом смысле. Все письма проходили через ее руки, любое письмо она могла оставить себе и поехать по нему в командировку. Творческий метод ее был очень прост. Она встречалась с автором письма, записывала все, что узнавала от него и о нем, а затем садилась писать статью. Во первых строках пересказывала письмо, цитировала из него несколько строк или приводила полностью, а затем рассказывала о себе, как ездила, как встретил ее автор письма, как они просидели целую ночь, беседуя о жизни.
Заявление рыжей девочки, что она идет на крышу, сначала несколько удивило Лидию Князеву, а потом даже понравилось. Хороший журналистский ход предлагала сама жизнь…
Алена жила в шестиэтажном доме с аркой, с покатой зеленой крышей, огороженной по краю ржавой решеткой. В некоторых местах, особенно со стороны двора, от решетки остались только столбики. По весне, когда открывали чердачный люк, Алена забиралась на крышу и часами просиживала там, глядя сверху на город. Дом был построен до войны, в войну разрушен, после войны отремонтирован. Его и два других, примыкающих к «Электронике», собирались снести, чтобы построить на этом месте такое же высокое здание: «Дом книги».
Алена надеялась отвязаться от журналистки, думала, что та не полезет на крышу. Но Лидия Князева полезла. Она была в красных сапожках на высоких каблуках, сильно прибавлявших ей рост, делающих осанку. Но на крышу в таких сапогах лезть было неудобно. Перед чердачной лестницей Алена сказала, надеясь остановить журналистку:
— Вам, наверное, в таких сапогах скользко будет?
— Ничего! Полезли, старуха!
Она считала себя бесстрашной журналисткой: в кратер вулкана так в кратер вулкана, на крышу так на крышу, лишь бы не упустить интересный материал, «взять прямо со сковородки жареный факт».
На крыше, после того как снег счистили, осталась снеговая крошка. Она подтаивала, железо было мокрым. Приходилось карабкаться на четвереньках, чтобы не загудеть вниз. Крыша громыхала, скользила под ногами, но Лидия Князева упорно лезла за Аленой.
На самом верху, около телевизионных антенн, — ровная бетонированная площадка. Здесь Лидия Князева выпрямилась на подрагивающих от напряжения ногах, долго откашливалась, свистя и хрипя прокуренным, простуженным горлом, и затем ее душу охватил восторг восторгов. Она никогда не поднималась так высоко, не стояла на крыше дома.
Здесь же, около антенн, на кирпичах лежала доска. Видимо, рабочие, которые счищали с крыши снег, здесь отдыхали, как на лавочке. Ноги всё подрагивали, и Лидия Князева села на доску.
Алена, взобравшись на крышу, распахнула шубку, сняла шапку. Ветер играл фартуком, подбрасывая его и опуская, а затем вдруг стихал, и фартук повисал неподвижно. Солнечные лучи в короткие минуты затишья становились горячей, казалось, они прижимают фартук к платью и проникают сквозь платье к телу. И снова налетал ветер, щекотал шею, руки, лицо, тело под платьем. Алена запрокидывала голову, ловила веснушками и челочкой солнце и ветер.
Лидия Князева перестала подкашливать, сидела тихо, отдыхала. С крыши далеко в обе стороны был виден бульвар. В середине широкой улицы — деревья с грачиными гнездами. По ту сторону бульвара мчатся трамваи и машины, по эту — только машины.
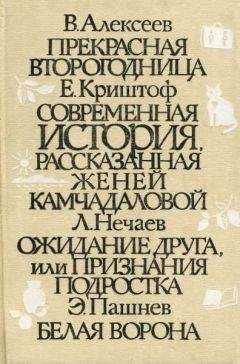
![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)



