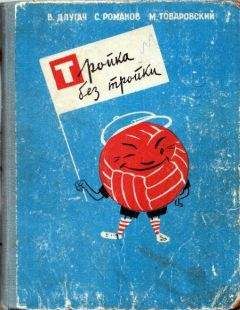Ознакомительная версия.
Пальцы обхватили нижнюю челюсть. Врач напрягся. Быстро ощупал челюсть, ещё раз пробежался по левой стороне. Лицо его свирепело по мере того, как он ощупывал нос, лоб. Подняв рубашонку, он ловко перевернул меня на живот, одновременно снимая её. Очень красивые руки с пальцами пианиста бережно обследовали голову, прошлись по просвечивающим рёбрышкам, погладили спинку.
— Это что? — бешеным шёпотом спросил врач, кивая на проступившие на коже белые полосы. — Я вас спрашиваю, мадам любящая мамаша: как это называется?
— Это? Подписка о неразглашении. Семь курганов. Врачу должно быть понятно, — ответила мама.
— Кричала громко? Плакала долго?
— Молча пыталась откусить палец. Сразу заснула, проспала семь часов. Не плакала. Вообще плачет редко.
— Она выкарабкается, если вы не убьёте её своей глупостью. Ну а теперь слушайте и запоминайте, как «Отче наш». Первое — у неё брюшной тиф. Температура продержится ещё четыре-пять дней, дальше — кризис. Второе — нельзя допустить дальнейшего подъёма температуры, иначе умрёт. Через каждые полчаса обёртывайте её в холодную мокрую простыню минуты на три. И слушайте дыхание. Пить — липовый отвар. Вот бутылка с отваром. Вот сухой липовый цвет на будущее. В питьё добавляйте мёд. Вот он. Начнёт кашлять — вот компрессная бумага. Тёплые компрессы, только через три-четыре дня после кризиса, — говорил врач, вынимая из саквояжа и ставя на стол бутылку и свёртки.
— Третье и самое главное. У неё сейчас кишечник — как мокрая папиросная бумага и так же легко может разорваться. Пока не минует кризис, поите насыщенным, не очень сладким компотом, процедив его через ткань. Если попадёт хотя бы одна плёнка от яблока — будет беда. И не более двух чайных ложек в один приём, не более одного стакана в сутки. Сейчас напишу график приёма пищи на ближайшие пять недель. И помните: до кризиса её жизнь — в руках Бога, а после кризиса — в ваших. Поправляться будет медленно. Через шесть недель после кризиса пища уже может быть обычной, но не раньше. Особенно опасной могут быть вторая и третья недели после кризиса: температура спадёт и появится аппетит, а есть можно очень понемногу. Будет просить пить. Не давайте ей самой в руки стакан с водой! Сделает быстро несколько крупных глотков и погибнет. Всё понятно?
Уложил халат в саквояж, оделся и пошёл к выходу. У дверей остановился. Мама, смущаясь, протянула ему деньги.
Он усмехнулся:
— Мне за визит уже заплачено.
Выйдя в коридор, взглянул на стоявших у наших дверей женщин и рявкнул:
— Не вздумайте, пока мать на работе, сунуть ребенку тёплый оладушек, булочку или ещё что-нибудь. Знаю я вас, сердобольных. Угробите этим девку, ясно? Все гостинцы только через мать, понятно? Хотя сейчас главное — мать подкормить, того гляди сама свалится. Кто-нибудь из вас поедет в воскресенье на базар в Кара-Балты? Зайдите в магазин у базара — туда привезли детские ночные горшки. Ей ещё долго будет нельзя в общий туалет бегать. Купите ей. Скажите там, что я велел купить для больной девочки горшок, — вам продадут.
И ушёл. На улице зафырчала машина. Директорский «газик» увёз доктора К. домой. Как говорили люди, вроде бы доктору К. совхоз отправил в оплату визита воз сена. Полиговой от всех попыток сказать спасибо только отмахивался.
XII. Хороших людей всегда больше
Мама уходила на работу, а со мной по очереди сидели жена управляющего Нина Кузьминична и старшая Купранова. Действительно, холодные обёртывания помогали и температура, продержавшись ещё четыре дня, так же медленно поползла вниз. Ещё через неделю я пришла в себя и попросила есть. А вот чем кормить выздоравливающую? В сутки можно было съесть полтора стакана еды. Какой? Было понятно, что пища должна быть калорийной. Но стояла зима. А зимой здесь с едой негусто. Коровы уже не доились. За два-три месяца до отёла их переставали доить, а телятся коровы весной — в марте-апреле. Потому в феврале молока нет ни у кого. Если нет молока, значит, нет и масла. Нет даже на базаре. Яиц нет: куры тоже начинают нестись весной. Полезен мясной бульон, лучше куриный. Но за зиму уже съели всех лишних кур. К началу весны в хозяйствах остаются только будущие несушки и петух. Зарезать их — значит остаться без яиц и цыплят на следующий год. Купить говядину почти невозможно: никто не режет скотину к весне. Лишний скот забивают осенью или зимой к Рождеству; глупо делать это в феврале, если ты уже прокормил скотину почти всю зиму.
Не знаю, как бы вышла мама из этого положения, если бы не приехали навестить нас Настя и Маня Южаковы. Поплакали, глядя на меня, выслушали всё, что велел врач. На следующий день приехал Савелий, привёз корзину яиц, муку и пять живых куриц. Куры были белые и пёстрые, не такие, как у всех здесь. Почему же у Савелия были яйца и куры, а здесь не было? Потом я узнала, что всё дело в породе. В этих краях в основном куры красные — род-айленды — и чёрно-пёстрые — плимутроки. Это довольно крупные птицы, но они начинают нестись поздно и несутся меньше, чем те, которых разводил Савелий. Он считал невыгодным разводить «общепринятые» породы. Его вылупившиеся в мае цыплята неслись, начиная с сентября, всю зиму. Вот и привёз нам Савелий двух леггорнов, которые несли яйца, и трёх бело-пёстрых куриц, предназначенных на бульон. Маму и меня несколько смущало, как это мы будем варить живую курицу. Но, пока ещё бульон мне было нельзя, решили подождать и выяснить у Уляши, как быть с курами. А пока эти пять куриц ходили по комнате и квохтали. Потом, по совету Уляши, мама покрасила чернилами шеи и спины наших куриц, и их пустили к себе в курятник Купрановы.
Поправлялась я долго и трудно. Исхудала так, что даже на стул просто так сесть не могла — на деревянном сиденье было больно попе. Пришлось маме сшить подушку для стула и специальную — для горшка. Через несколько недель, когда я начала вставать с постели, оказалось, что ходить я тоже не могу — ноги не держали. Вечерами с мамой я училась ходить заново.
Целыми днями мама была на работе. В нашей маленькой комнате на узкой и жёсткой кровати я лежу одна. Мне грустно и всё время хочется есть. А много есть нельзя. Чтобы я не съела что-нибудь лишнее, вся еда убрана в сундук, сундук заперт на замок, а ключа у меня нет. Иногда кто-то заходит и даёт мне съесть одну столовую ложку какой-нибудь еды.
Лежу одна и думаю. Тихо. В этих местах ни у кого нет ни радио, ни электричества. Скучно. Все любимые игрушки и книги остались в опечатанной московской квартире. Смеркается. В голове бродят печальные мысли. Хочется плакать. Я думаю о том, какая у нас теперь тяжёлая жизнь. Где папа — неизвестно; да и как он нас найдёт, если мы так далеко? И за что это столько всего плохого с нами приключилось? А мама почему-то всё время говорит, что хороших людей вокруг всё равно больше, чем плохих, надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла. Как это больше? Тогда почему мы тут? И ничего не осталось у меня от той далёкой прекрасной жизни. Слёзы бегут сами собой.
Почему же ничего? Осталось главное — мама. Скоро мама придёт с работы. Засмеётся. Пошутит. Расскажет какую-нибудь сегодняшнюю забавную историю, затопит печку. И, пока делает домашние дела, будет петь — петь всё, что мне хочется ещё раз услышать.
Сколько бы ни продолжалась болезнь, она когда-нибудь да проходит. Поправилась и я. И, как ни странно, именно за время болезни я поняла новое правило: наши сиюминутные желания могут толкнуть нас на очень опасные или просто глупые поступки. И впредь старалась думать, прежде чем что-то сделать, даже если очень хочется. Даже сейчас, прожив уже очень много лет, я должна признать, что это самое трудное из усвоенных в детстве правил!
Например, я болела и, когда прошёл кризис, всё время очень хотела есть. Вот хочу прямо сейчас, хочу съесть много, смогу съесть всё, что стоит на плите. И в то же время знаю, что сейчас больше двух ложек сразу мне съесть нельзя — порвётся желудок, и умрёшь.
Вот и выбирай тут, что делать сию минуту. Мама как-то, уходя на работу, забыла убрать кастрюльку с едой в сундук. Я мучилась долго, потом окликнула кого-то, проходившего по коридору, и попросила запереть еду в сундук и унести ключ.
Вскоре дела у нас пошли лучше. Мамин проект во Фрунзе получил одобрение. Всему руководству совхоза, и маме тоже, выдали премию. Наши вещи из Фрунзе прислали на станцию Кара-Балты, и мама наконец получила большой чемодан, который уехал с нами из Москвы.
У наших соседей начали телиться коровы. В комнатах появились телята и для меня — молоко! В марте ещё холодновато, и новорождённых телят хозяева держат в тепле — вместе с собой. Потом уже, примерно через месяц, телёнка переводят в холодный хлев. Я крепла, подрастала, вместе с телятами набиралась сил и радовалась весеннему солнцу.
Рабочие совхоза любили маму, потому что она была со всеми доброжелательна, потому что не жалела своего времени на помощь. После работы три вечера в неделю она вела «ликбез» — учила всех желающих читать и писать, а остальные четыре вечера читала всем вслух Гоголя и Пушкина.
Ознакомительная версия.