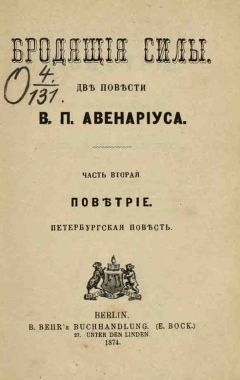Вы полагаете, что тут действует одно подражание материнства (maternite), что ей хочется иметь собственную дочку лишь затем, чтобы быть „большою“, большою, как ее мать, чтобы самой иметь возможность кем-либо управлять и помыкать, кого-либо голубить и корить. Есть тут, пожалуй, и подобного рода побуждение, но не оно одно: рядом с подражательным инстинктом идет другой, врожденный, обнаруживающийся во всяком распускающемся женском организме, хотя бы эта будущая женщина и не имела перед собою образца в лице матери.
Назовем предмет его настоящим именем: это первая любовь. Идеалом в нашем случае служит не брат (он слишком задорен, слишком шумлив), а маленькая сестрица, такая же, как она, кроткая, любящая, которая и приласкает, и утешит.
Новая точка зрения, не менее верная: это первая попытка самостоятельности, первый робкий протест начинающей сознавать себя личности.
Под такой, самой по себе весьма грациозной формой кроется, без ведома малютки, зарождающееся стремление обособиться, известная доля оппозиции, женского противоречия. Она приступает к своей роли — роли женщины; под вечным игом терпит она теперь от своеволия матери, как впоследствии будет терпеть от своеволия мужа. Ей необходима поверенная, хоть маленькая, самая крохотная, с которой можно было бы повздыхать… о чем? да покуда, пожалуй, ни о чем, или — как знать — о чем-нибудь ожидающем ее в будущем. Ах, да и как же ты права, дитя мое! Много горечи подмешается еще к кратким часам твоего земного счастия! Увы! Мы, обожающие вас, сколько слез причиняем мы вам!»
Правда, m-r Michelet, истинная правда! Страдаем мы чрез вашего брата, жутко страдаем! Да и впрямь, не обречены ли мы с самых пелен на пассивную роль? Если сравнить с девочкой, описываемой Мишле, любого мальчугана — найдем ли мы в нем хоть тень той застенчивой замкнутости в самого себя, той выносливости, той потребности в дружеской душе для сердечных излияний? Нет, он весь нараспашку, и если ищет общества сверстников, то только затем, чтобы быть между ними первым. Удаль ему врождена; никого на свете он не боится — разве отца своего; лазать по деревьям, по крышам за голубями — страсть его. Дайте ему куклу — он свернет ей шею, переломает руки и ноги. Ему нужно ружьецо, нужна лошадка, а за неимением наличной, первый чубук, первая трость преображаются в коня, и, совершенно счастливый, с оглушительным гамом, гарцует он по всем комнатам дома. Самою природою назначен он обладателем, самовластным господином мира. Как же после этого соревновать с ним слабенькой, чувствительной женщине, свертывающейся при всяком грубом прикосновении, как мимоза, в самоё себя, нуждающейся в надежной опоре для поддержания своего воздушного тела? Но обвиваясь цепким плющом около своей опоры, около любимого человека, она все-таки не делается его рабою: как он ей, так и она ему необходима: мягколиственными, душистыми ветвями обвивается она вокруг него так сердечно, так любовно… и не знает он существования раздельно от нее: без ее нежной заботливости, робких ласк — этой эссенции его жизни, он уже сам не по себе; и выбивается он из сил, чтобы добыть ей все удобства жизни, и домогается почестей и славы, чтобы было ей чем погордиться. В таком супружестве не может быть и речи о рабстве, о деспотизме: оба господствуют, оба с радостью несут иго своего второго я. Если бы мне, например, нести иго Л…? Как бы чудно легко было оно, более чем легко: тогда лишь я чувствовала бы себя…
Ха, ха, ха! Как я, однако, нелепо замечталась, даже слезы навернулись… Полно, дитятко, не всем же, право, звезды с неба хватать. Иной бы, пожалуй, пожелал быть Ротшильдом, да мало ли чего? Нет, я могу даже благословлять судьбу свою; чего лучше: ни с кем не связана, никому не обязана; хочу связаться — Чекмарев под рукой; вздумаю бросить — уйду, «прощайте-с»! и дело с концом; никто и взыскивать не может. Право, завидное положение.
Разумеется, между нами не будет никогда той заветной симпатии, той бесконечной преданности, как между истинно любящими, живущими исключительно друг для друга… Ну, да ведь в целом мире нашелся бы, может, один только человек…
Вон, несбыточные иллюзии! Это уже ни на что не похоже: глаза заволокло дождевою тучей, а в горле скребет, как перед ливнем… Лейтесь же, лейтесь, горючие: никто вас не видит! Господи, что за скука!!
Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что! они делают со мною!
Н. Гоголь
Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю.
А. Островский
Долго крепилась я, долго не хотела признаться себе; но теперь не может быть сомненья: я буду матерью…
Говорят, будто замужние с тайным восторгом замечают подобное состояние. Со мною совершенно противное: всю дрожь пробирает, нехорошая дрожь, на лбу холодный пот выступает. «Неужто, неужто?» — твердила я все последние дни, то отгоняя от себя неотвязную, ужасную мысль, то стараясь разными софизмами доказать себе неосновательность предчувствия.
Так вот он, хваленый ваш натуральный брак! Будущее дитя мое, дитя от нелюбимого человека! Еще не родившись, ты мне уже ненавистно! И ведь никакого исхода: терпи, жди! Это, наконец, невыносимо, лучше окончить с собою…
Я, однако, довольно холерического темперамента: в порыве негодования и отчаянья изорвала на себе платье. Благо, что утреннее, ситцевое, а то бы невыгодно… Ха, ха! До истерики смешно.
Что же делать? Метаться по комнате? «Караул» кричать? Да почти что одно только и остается! Разве Чекмареву написать? Может, он-то хоть что придумает; ему же ближе всего заботиться о детище своем.
Боже, как противно писать к нему, лучше бы, кажется… Право, не знаю, на что бы я вместо того решилась. Ну, да полно сентиментальничать, дело серьезное, серьезное как смерть. Бери, матушка, перо, смотри, чтобы не дрожало в пальцах, чтобы он не угадал твоей борьбы; и ни слезинки! Не забывай, что ты студентка.
* * *
Ответа, Чекмарев, ради всего святого — ответа! Вот уже третий день, как отослала письмо, и хоть бы строчку! Долго ли наконец ждать? Как ошалелая, маюсь, не зная, куда деться; как медведь на цепи, слоняюсь из угла в угол; на свет не глядела бы, право!
Мать заметила мое расстройство.
— Ты, ma chere, как будто indisposee [51]? He послать ли в город за доктором?
— Отстаньте, пожалуйста, с вашим доктором! — ожесточенно прикрикнула я на нее, так что она, бедная, не нашлась даже, что сказать, совсем оторопела.
Я заперлась в своей келье. Теперь, конечно, жаль ее: иногда у нее прорывается родительское чувство, и оно-то, вероятно, внушило ей те заботливые слова. Но прошу покорно владеть собою, не сердиться на весь свет, когда это ненавистное дитя ежеминутно, ежесекундно напоминает о себе!
Зачем, однако, по какому праву я изливаю на него свою желчь, на это ни в чем не повинное существо? Нет, оно виновно, виновно уже тем, что от нелюбимого человека!
Чекмарев! Да скоро ли ты заблагорассудишь удостоить меня ответа? Хоть луч бы чего-нибудь!
Ответ Чекмарева.
«Нечего, я думаю, говорить вам, Липецкая, что новость ваша нимало меня не обрадовала. Угораздило же вашу природу так поторопиться! Чтобы и ей, и бабушке ее, и тетке, если есть такая, пусто было! Ну, да жалобами дела не поправишь, факт существует; спрашивается только: как вы полагаете извернуться из него?
Мой взгляд на воспитание вам известен: я вижу в детях не игрушку для родителей, а собственность государства. Практические спартанцы отрывали человека уже младенцем от груди матери — и доставляли государству верных, мужественных граждан, крепких нервами и мышцами. Расслабленные идеалисты — фешенебельные афиняне умели только стишки пострачивать да двусмысленные статуйки вырубливать, в гражданских же доблестях спартанцам и в подметки не годились. И у нас на Руси есть свои спартанцы, в ограниченном покудова числе, но есть; это — мы, молодое поколение, с девизом: „Сапоги полезнее Пушкина“. Просто, а красноречиво!
Итак, чтобы воротиться к нашему незваному потомку, — куда вы намерены пристроить его? Для первого раза я советовал бы отдать его в воспитательный, в ожидании улучшения наших финансовых обстоятельств. Всегда ведь есть возможность узнать стороною, куда, в какую деревню отправят его; а там, как заведутся пекунии, можно его, пожалуй, передать и в лучшие руки, в Женеву что ли, в пансион. Первое дело — укрепить его физически, чему лучше всего может способствовать здоровый деревенский воздух; и притом не приучать к родителям, ибо из подобных миндальностей, как говорится, окромя дурного ничего хорошего не может выйти.
Вот, значит, вам мой совет. Вы вольны, конечно, не принимать его; но в таком случае я омываю руки и не отвечаю за последствия. Была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. Ежели же вы будете настолько рассудительны, что поступите по моему желанию, то даю слово приносить на алтарь семейный и свою посильную лепту: само собою разумеется, что сумму, недостающую на воспитание filius'a [52], вы, как женщина самостоятельная, постараетесь добывать сами.