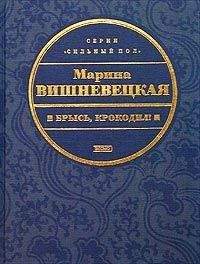— Домой хочешь подарки отвезти?
— Конечно, хочу. Маме.
— Погоди, — сказала тетя Матрена. — Маме, говоришь?
Она взяла от меня фонарик и залезла в один из сундуков. Покопалась в нем, нагнувшись, и вынула тускло поблескивающего человечка.
— Серебряный, — сказала она.
Вторым у меня на очереди был дядя Тигран.
— А кто он? — спросила тетя Матрена.
А и правда, кто он у нас? Ведь не скажешь же просто: учитель. Учителей много, а дядя Тигран — это дядя Тигран.
— Ну, как бы это… — сказал я. — Он взрывать умеет, у него мотоцикл из Африки. Градусники собирает. Шампуры из титана сделал…
Рылась тетя Матрена долго. Звенела чем-то.
— На, — говорит. — Только тут не все шарики целы.
Дала она мне какую-то большую плошку, коричневую, тяжелую, думал: из камня или из кости, а оказалась из тяжеленного дерева. Плошка была с резными драконами, их было шесть, они подпирали плошку со всех сторон, и оскаленные головы их торчали. А в зубах у них были шарики. Шарики свободно катались за зубами дракончиков, но не выпадали.
— А что это? — спросил я.
— Это прибор для определения эпицентра землетрясения. Надо установить на ровном месте, на жесткой подставке. И всем шарики в зубы. Как тряхнет — так у кого-то из драконов шарик из зубов и выпадет. Значит, землетрясение в той стороне.
— Здорово! — сказал я. — Это уже точно для дяди Тиграна. А шарики-то он выточит.
— Ты скажи ему, чтобы обязательно деревянные. Иначе действовать не будет.
Я не стал ей говорить, что дядя Тигран сам кому угодно что угодно объяснит. Правда, в Ленинграде долго ждать, пока шарики из драконов повалятся.
— Ну, еще кому?
Я подумал о Томашевской.
— Теть Матрена, можно еще этого?
Я взял самого маленького толстячка, он в кулаке у меня помещался.
— Бери. Еще кому нужно?
— Папе.
— Нет, — вдруг резко сказала тетя Матрена. — Папе твоему не дам. Он медведей приехал бить.
— Он ведь по разрешению…
— Не дам.
Хорошо еще, что я не сказал ей про дядю Тиграна. Это ведь он дяде Сереже и папе лил пули.
— А себе? — спросила тетя Матрена.
Я вообще-то ждал, что она так спросит.
И тогда я взял этот меч. То есть это был не то чтобы меч, но и не кинжал — тесачина такой громадный, тупой и тоже из бронзы, и конечно, резать или рубить им и раньше было нельзя — весь в узорах и письменах, и колечки были для пристегивания, а ножен не было.
— Это ритуальный меч, — сказала тетя Матрена. — Не знаю только, для чего.
Жалко, вообще-то, было уходить. И половины не посмотрели.
Когда мы отошли шагов на пятьдесят от избушки, я оглянулся. Избушки не было. Скрылась, как в сказке.
— Вы вроде хранительницы, тетя Матрена, — сказал я.
Она не ответила. Вообще всю обратную дорогу молчала. То ли обиделась на что-то, то ли вспоминала. Я заглянул ей несколько раз в лицо, но ничего не мог на нем прочитать.
А потом мы вышли на край леса, перед нами была пологая, уходящая к другому, прибрежному лесу равнина, тетя Матрена села на камень, я снял с себя звякающий рюкзак. И глядя на равнину, тетя Матрена стала набивать свою трубку.
Солнце садилось.
В этот день мы повернули назад.
— Да, брат, скоро расставаться, — сказал Иван Михайлович.
А я уже был в рубке своим. Даже бинокль на шею не вешал. Брал со столика, если надо куда глянуть. И дырочку от пули мы с Иваном Михайловичем бумажкой заклеили — на ходу из нее дуло. Непривычно.
— Да, — сказал Иван Михайлович. — Вот и отплавались…
Жаль мне его стало. Сильный и все такое, но ноги у него плохие, вон в валенках теперь стоит на вахте. Что бы ему подарить?
— А зверье ты любишь, — сказал он. — Это от кого у тебя? Не от отца ведь?
— От мамы, — сказал я. — Она у нас главный лекарь. И еще от… — Я споткнулся. — От Томашевской. Есть такая.
— Жаль, их не знаю, — сказал Иван Михайлович. — Те, кто зверье любят… Они…
Так и не сказал.
— Да вы знакомы, — сказал я. — С Томашевской-то.
— Кто? Я?
— Вы.
В рубке темновато было.
— Не припомню, — напряженно сказал Иван Михайлович.
— Ну как же…
— Да нет, не знаю.
— Вы еще ее за ухо оттаскали…
— Когда?!
— А вы и не помните?
— Не помню.
— Вы шли по берегу… Ну, около Петергофа.
— Так, так… — озадаченно сказал Иван Михайлович.
— Ну, вот. А мы, Томашевская то есть…
— Так, так…
— Ну, курила. Дым пускала…
Ничего он не помнил. Совсем ничего. Я ему рассказывал, а он смотрел на меня и лоб чесал, будто я ему его сон рассказываю.
— Вот ведь как, — сказал он смущенно. — Да… Обижаешься?
Я-то? Да уже давно все простил. Теперь мне казалось, что никогда я на него и не злился.
— Знаешь, — сказал он. — Я когда по берегу шел — вспоминал. Мои там лежат. Десантники-байкальцы. Да… Вот, значит, как. А ты, значит, все об этом думаешь. Стоишь тут рядом и думаешь… Нехорошо вышло. Драть-то вас, конечно, надо. Но как же я-то?.. До синяков, говоришь?
— До синяков, — с удовольствием сказал я.
— Дела. Что, прямо так — по заду?
— Да еще как!
— И девчонку?
— Сильней, чем меня!
— Ох! — сказал он. — Послать надо чего-нибудь ей. Как ты думаешь? Что она любит-то?
— Собак, — сказал я.
— Собак?
И замолчал. Только мне видно было, что думает.
— А если лаечку?
— Большую?
— Пять месяцев.
— Блеск, — сказал я.
— Знаешь, какая собака… Легонькая, шея дугой. Не то собачка, не то лошадка. Городская какая-то. И умница. Все мордочку набок клонит, будто соглашается. Может, возьмешь?
— Как ее зовут? — спросил я.
— Да вот никак и не окрестим.
— А в самолет с собаками пускают? — спросил я.
Я стоял последнюю вахту.
Тихо было. Штиль. Какое все-таки озерище! Две недели ходим, а берега все новые. Или, может, мы их проходили ночью, когда я спал?
Появился хребет Хамар-Дабан, висит слева над водой розовыми облаками.
Гена принес компоту прямо на вахту. Поставил передо мной кастрюлю. Пей, мол.
Дядя Миша снизу спросил по переговорной трубе, не прибавить ли оборотов.
— Конечно, прибавить! — сказал я. — Полный вперед!
Вода зашипела, как пошли…
Иван Михайлович что-то молчаливый. Придет в рубку, встанет за моей спиной, руку мне на плечо положит. А с другой стороны уже тетя Матрена стоит. Так и плывем.
Я у Ивана Михайловича спрашиваю:
— А ваши дети отдадут лаечку-то?
— Отдадут, — говорит. И ушел сразу же.
Тетя Матрена мне и говорит:
— Ты у него не спрашивай больше.
— А почему?
— Да так. Нет у него детей. А он — видишь, как к тебе привязался.
К тому старику, где остались папа и дядя Сережа, мы пришли ночью. Будить папа меня не стал, а видно, проговорил всю ночь с Иваном Михайловичем. Утром просыпаюсь, а он в ногах у меня сидит, мне в лицо смотрит.
— Папка, — говорю, — а мы тут за браконьерами гонялись…
— Знаю, — говорит и странно при этом на меня смотрит. Насквозь как-то. — Знаю…
Да как обнимет меня… Раньше-то не очень обнимался — скажет что-нибудь такое, и смотрим друг на друга, усмехаемся. Он — оттого, что придумал, я — оттого, что понял.
А сейчас смотрел, смотрел, да как обнимет…
— Пап, — говорю. — Я тебе сейчас все расскажу… А где дядя Сережа?
— Да он там на палубе со шкурой возится.
— С какой шкурой?
— С медвежьей.
Мы летим в самолете. На коленях у меня маленькая лаечка. Ушки у нее еще не очень стоят.
В багаже у нас громадный, обшитый мешковиной, тюк. Когда лаечка его понюхала, она завыла и стала около него носиться — еле ее оттащил. И сейчас она поводит носом в сторону дяди Сережи и папы и всхлипывает.
В багаже у нас сырая медвежья шкура. Ее отдадут выделывать дяде Тиграну.
У нас с папой опять какие-то новые отношения, пока что не разобраться какие. Он обросший. И спит. Но есть что-то в нем новое, хоть и спит. Дядя Сережа тоже спит.
А я сижу, почесываю лаечку, думаю.
Мама там в Ленинграде уже, наверно, поставила будильник, чтобы нас встретить. Поскорей бы!
И еще — Томашевская говорила, что они переезжают. Если уже переехали и ее долго придется искать, лаечку придется оставить нам. У собак порок сердца бывает от смены хозяев — а вон она как ко мне уже привязалась, так и прилаживается…
Noblesse oblige — положение обязывает (фр.)