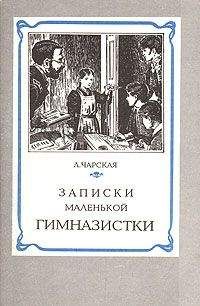Я так глубоко задумалась над решением этого вопроса, что не заметила, как мы подошли к знакомым дверям.
— Ну, будьте умными хоть сегодня! — проговорила Матильда Францевна. Она ежедневно говорила одну и ту же фразу, когда при помощи гимназического сторожа Иваныча мы с Жюли снимали бурнусы и калоши.
Потом Бавария и ее клетчатая накидка и клетчатый бант на шляпе исчезли за дверью, а мы с Жюли, крепко обнявшись (мы никогда не ходили теперь иначе), побежали в класс.
— Что ты такая бледная, Леночка? — заботливо осведомилась у меня Жюли.
— Бледная? Разве? — принимая самый беспечный вид, произнесла я.
— Ну да, я понимаю тебя, — продолжала моя двоюродная сестрица, — тебе жаль бедного Никифора Матвеевича и Нюру, да?
— Да, — отвечала я машинально, думая совершенно о другом.
Урок французского языка и класс Василия Васильевича я просидела как на иголках.
«Господи! Что-то будет? Что-то будет?» — мысленно твердила я.
Но вот наступил урок закона Божия. Батюшка вошел в класс ровно через две минуты после звонка. Дежурная Соболева вышла на середину класса и прочла молитву перед ученьем. И вдруг, не успела Нина Соболева произнести последние слова молитвы: «…возросли мы Тебе, Создателю нашему, на славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу», — как дверь класса широко распахнулась и к нам вошла Анна Владимировна — начальница гимназии.
— Здравствуйте, дети, — произнесла она, ласково кивая нам своею седой как лунь головою и широко улыбаясь молодым лицом. — Я пришла узнать, насколько вы подвинулись в законе Божием… Пожалуйста, батюшка, не обращайте на меня внимания и продолжайте урок, — почтительно обратилась она к священнику.
— Мы вам, Анна Владимировна, сейчас хорошим ответом похвастаем, — улыбаясь, ответил отец Василий. — Иконина-вторая, — назвал он меня, — отвечайте, что вам задано на сегодня.
Я поднялась со своего места. Ноги у меня двигались с трудом, точно свинцом налитые, а в голове так шумело, что в первую минуту я даже не могла понять, чего от меня требовали.
— Что вам задано на сегодня? — снова повторил свой вопрос священник.
Я отлично знала, что задано, и выучила отлично историю прекрасного Иосифа, которого злые братья продали в Египет в неволю, но язык не слушался меня. Я думала в эту минуту:
«Что делать? Огорчить ли дурным ответом добрую Анну Владимировну и заслужить наказание?.. Наказание я заслужу — я знала наверно. (У нас всегда наказывали за незнание урока закона Божия, оставляли девочек на два-три лишние часа по окончании урока в гимназии.) Это мне даст возможность попасть к Нюре и ее папе, который, может быть, умирает в эту минуту… Или же лучше заслужить похвалу начальницы, доказать, что я „пай-девочка“, „умница-разумница“, но зато не повидаться с моими друзьями в такое тяжелое для них время! Нет! Нет! Никогда! Ни за что!»
Я разом решила, что мне надо было делать.
— Что вам задано на сегодня? — значительно уже строже произносит свой вопрос в третий раз батюшка.
Я смотрю на него глупыми, ничего не выражающими глазами и молчу. Упорно молчу, точно воды в рот набрала.
— История Иосифа! История Иосифа! — шепчет мне отчаянным шепотом Жюли с первой скамейки.
— История Иосифа! — повторяю я ужасно глупо, как попугай.
— Ну и расскажите мне, кто был Иосиф, — как бы не замечая моего странного ответа, говорит батюшка и глубже усаживается в кресле, приготовляясь к хорошему ответу.
Я молчу…
Ах, как это ужасно — стоять и молчать в то время, как языку так и хочется рассказать все то, что он знает, от слова до слова! Но я молчу… Молчу как истукан, как немая.
— Кто был Иосиф? — совсем уже строго спрашивает теперь батюшка.
Капельки пота выступают у меня на лбу. Щеки делаются сначала белыми, как бумага, потом красными, как кумач.
— Иосиф… Иосиф… — лепечу я, захлебываясь, и делаю круглые глаза. — Иосиф был царь…
— Царь? — удивляется батюшка. — Вот так удружила! А не сын ли царя? — прищурив на меня глаза, что означало у него высшую степень недовольства, спрашивает он снова.
— Ну, сын царя! — отвечаю я бесшабашно.
Японка даже на стуле привскочила. Надо сказать, что история с красной книжечкой давно объяснилась; Жюли откровенно призналась, что книжку унесла и сожгла она, и Зоя Ильинична снова засчитала меня прежней хорошей ученицей. Поэтому она очень удивилась, что хорошая ученица, знавшая всегда отлично уроки, отвечает, да еще таким тоном, какую-то чепуху.
И батюшка удивлен, и начальница. Она даже в лице изменилась, покраснела немного и смотрит на меня такими грустными-грустными глазами.
— Ну-с, что же сделал этот царь, или сын царя, по-вашему, Иосиф? — снова спрашивает батюшка и прищуривается сильнее.
— Он продал братьев в неволю, — отвечаю я храбро, даже не сморгнув.
Кто-то фыркает за моею спиною. Кто-то закашливается, стараясь удержать бешеный прилив хохота.
Но батюшка остается спокойным, и если он сердится, то этого совсем не заметно на взгляд.
— Как продал? — снова задает он вопрос. — Всех двенадцать продал разом?
— Всех двенадцать разом! — вру я без запинки.
Японке положительно делается дурно в эту минуту.
— Иконина, опомнитесь! — кричит она не своим голосом и, налив себе воды из графина, выпивает весь стакан залпом.
Класс не может сдерживаться больше. Девочки захлебываются от хохота, не будучи в силах удержаться.
И вот весь этот шум покрывает тихий, но внушительный голос Анны Владимировны:
— Иконина, стыдись! Я считала тебя хорошей, прилежной девочкой, а между тем оказывается, ты ничего не знаешь!.. Это возмутительно!.. Ты будешь наказана. Оставьте ее на три часа по окончании уроков, — обратившись к Японке, говорит начальница.
Вся обливаясь потом, я иду и сажусь на свое место.
— Бедная Леночка! Что сделалось с тобой! — сочувственно шепчет мне на ухо Жюли и крепко сжимает мои похолодевшие пальцы.
Ни Жюли, ни другие, конечно, не догадываются, что я сама желала быть оставленной после уроков и что я вполне довольна.
Пока все устраивается, как я хочу. Я скоро, скоро увижу вас, бедные, милые мои Никифор Матвеевич и Нюрочка.
20. Наказанная. — В путь-дорогу. — Потерянная записка
Серые стены… серые доски… серые окна и серый, ненастный день, заглядывающий в эти окна, не могут, конечно, способствовать хорошему расположению духа. К тому же неизвестность мучает меня: что-то делается там у моих друзей в скромном маленьком домике на окраине города? Жив ли еще добрый Никифор Матвеевич, которого за наши с ним две встречи я успела полюбить, как родного?.. А тут еще сиди и жди условного часа, когда сторож Иваныч придет в класс и объявит мне, что уже шесть часов и что срок наказания кончен. И тогда… тогда…
Но часы идут так медленно, так ужасно медленно… Я сижу около двух часов, я слышала, как било пять за дверьми, а мне кажется, что около суток я провела одна в этом скучном, пустом и неуютном классе.
От нечего делать я начинаю считать квадратики на паркете. Один… два… три… четыре… Но дойдя до двадцатого, спутываюсь; в глазах начинает рябить, и я бросаю это занятие.
А на дворе-то что делается!.. Господи Боже!
Темно, ни зги не видать… Метель так и кружит, так и кружит…
Как-то я дойду?
Если бы у меня были хоть карманные деньги, можно было бы нанять извозчика. Но денег мне не дают на руки, а те, что остались после мамочки, Матильда Францевна велела опустить в копилку.
А что, если за мной придет Дуняша или Бавария? Побоятся такой непогоды и явятся сюда. Тогда прости-прощай всему!
Я даже губы стиснула и застонала, точно от боли, при одной мысли об этом. Но нет; вряд ли кто догадается прийти сюда. В шесть часов у нас в доме обедают, и Дуняше приходится помогать Федору прислуживать за столом, а Бавария… Мы слишком близко живем от гимназии, для того чтобы Бавария могла побеспокоиться на мой счет! Разве я не смогу пройти одна две улицы и переулок?!
Раз… два… три… — раздалось мерными ударами за дверью — четыре… пять… шесть!..
Шесть часов!.. Дождалась… Слава Богу!
Вошел Иваныч.
— Пожалуйте, птичка, из клетки, — ласково улыбаясь, пошутил он. (Иваныч был славный старик, любил нас, маленьких, и всегда жалел наказанных.)
— Не будете проказничать больше, а?
— Не буду, Иваныч, — через силу улыбнулась я и, вся замирая от волнения, спросила прерывающимся голосом: — Что, Иваныч, пришел кто-нибудь за мной?
Ах, каким долгим-долгим показалось мне время, пока добрый старик не ответил:
— Никого, кажись, нет. Никто не приходил.
«Никого нет! Никто не приходил! — запрыгало и заплясало что-то внутри меня. — Хоть в этом удача, слава Богу! Никто не помешает мне тотчас же пуститься в путь!»
Быстро сбежала я с лестницы, надела теплый бурнус, капор и калоши и со всех ног бросилась к дверям.