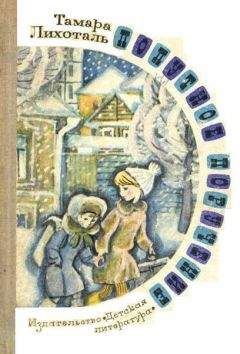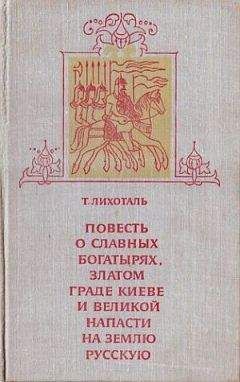У меня на губах вертелся один вопрос, который я не могла никому задать. Не могла спросить о том, что беспокоило меня, ни у мамы, ни у отца. Пожалуй, только у Вали. И я спросила:
— Как ты думаешь, если человек пригласил тебя в кино, ему надо сказать «спасибо» или не надо?
Человек, пригласивший меня в кино, был Слава, наш командир, самый хороший мальчик на свете. Вот он — кинотеатр «Интернационал» на углу, где, скрежеща, заворачивает трамвай. Низкий навес тоже в снегу. В узеньком простенке между колоннами на афише, закинув копыта, летят кони. Чубатый всадник припал к гриве, сжимая в руке пистолет. А с другой стороны девушка, похожая на Валину Зойку, задумчиво и грустно смотрит вдаль, где пылает не то закат, не то пламя боя. Под навесом за колоннами уже открыто окошко кассы. Можно подойти.
— Нам билеты. Дайте, пожалуйста, два.
Два, ведь мы вдвоем — я и Слава. Это произошло на перемене. На перемене, когда мы вышли в коридор. Слава стоял с мальчишками. Спорили.
— Научно доказано, что человеческий организм без воды может… — это, конечно, Рево. Слава сказал негромко:
— У нас там один боец однажды трое суток преследовал… ну, нарушителя. И подвернул ногу. Его нашли через трое суток.
— А я докажу, — Сережка, как всегда, распалился. И Коп-Коп тут как тут:
— Да, да, — щеки надул.
С тех пор как Сережка отбил его тогда вместе со знаменем, Коп-Коп так и ходит за ним, как бычок на веревочке. Друзья — водой не разольешь. Только если вдруг шпана какая или так — заваруха, Коп-Коп — за Сережкину спину. Даже удивительно, как он ухитряется — здоровый такой. Ему ведь Сережка — по плечо. А тут вон головой кивает, будто это он сам пробовал без воды столько суток.
Люська у окошка вертелась: «Снег! Ой, какой снег! Ах, какой снег!» — а сама на Славу посматривает. Раньше на Сережку смотрела, а теперь — на Славу. Сережка ушел. И Коп-Коп — за ним. Люська:
— Посмотрите, какой снег.
Но Слава не смотрел. Люська поджала губы. Люська отошла. А Слава… Тут он подошел:
— Таня (Таня, а не Топик), Таня, пойдем в кино.
Шагая рядом с Валей, я снова и снова вызывала в памяти весь этот короткий, но такой волнующий разговор. И как это он просто вдруг подошел и сказал: «Пойдем». А я? Что я ответила? Что-то пробормотала, вроде: «Пойдем». Нет, я, кажется, просто кивнула головой — у меня не нашлось никаких слов. А наверное, надо было сказать «спасибо».
— Как ты думаешь? — спросила я Валю. Но и Валя не могла сказать. Ведь ее еще никогда никто не приглашал в кино. То, что мы ходили все вместе с Сережкой Крайновым и с другими нашими мальчишками, — это не в счет. Это просто так.
— Наверное, надо, — сказала Валя, подумав. И мудро рассудила: — Ничего, ты потом скажешь, когда придешь.
Но я не сказала Славе «спасибо». Я не пошла с ним в кино «Интернационал» на картину, в которой навстречу грозному закату летели взмыленные кони. Я так и не знаю, доскакал ли тот всадник и дождалась ли его похожая на Валину Зойку девушка. Потому что в тот день в моей жизни случилась большая беда. Я могла бы рассказать об этой беде. Я могла бы рассказать также о летнем июньском дне, круто изменившем нашу жизнь, об испытаниях, которые уже стерегли нас. Но эта книга — о самых счастливых днях и годах. Поэтому вспоминаю я только хорошее.
Может быть, это мелочи, о которых не стоит говорить, но моя память заботливо сохранила их. Вот тихонько вошла и села со мной Валя. Она удивительно умеет молчать — моя Валюха. Ребята сгрудились у моей парты. Они ничем не могут помочь, но я чувствую их рядом, вижу расстроенное лицо Сережки Крайнова. А еще я помню наш последний сбор в школьном зале.
Нам вручили комсомольские билеты, в которые тут же вписали наши имена и фамилии. Я взяла серую книжечку с профилем Ильича и спрятала ее в карман коричневой вельветовой курточки. Этот карман по моей просьбе только вчера вечером пришила мне мама, чтобы я никогда не потеряла билета.
Сбор окончился. Я беспокоилась о маме и заторопилась домой.
— Таня, — окликнула меня Валя, бросившись следом, — ты спешишь?
— Да, врач обещал прийти.
— Ну, ладно, — сказала Валя, дотрагиваясь до моей руки, — беги, а позднее мы к тебе зайдем все вместе, да?
Был еще не вечер, но уже не день. Холодное апрельское небо медленно темнело над «Арсеналом», изредка озаряясь тихими отсветами. Зябли по обочинам тоненькие деревца, и блестели, мерцали схваченные апрельским ледком булыжники уходящего вдаль шоссе. Почему-то выплыли и зазвучали в такт с моими шагами лермонтовские строки. Торжественно и печально и так зримо отдавалось в моей душе: «…сквозь туман кремнистый путь блестит».
Я шагаю, ощущая под ногами горбатые булыжники. Каждый день я хожу по этой дороге, но сегодня у меня такое чувство, будто я только что вернулась откуда-то, приехала вновь после долгой разлуки. Наверное, это так и есть. Можно торопливо пробегать мимо, не оглядываясь, можно даже смотреть и не видеть. Но в какую-то минуту можно вдруг очнуться, удивиться: «Да вот же она — арсенальская ограда!» «Здравствуй, друже!» Кажется, все как было. Зубчатая стена. Добротная, на совесть кладка. Только пустыря нету. Куда ни глянешь — дом к дому. А вдоль шоссе — деревья. Это мы всей школой с шумом и криком сажали их. И было яркое желтое солнце, и мягкие комья земли, и осенние листья. И Люська звонко что-то кричала, заливаясь смехом, а мальчишки из «А», опустив лопаты, стояли и смотрели на нее. А в стороне над ямой, обхватив руками дерево, стоял перемазанный землей Сережка Крайнов. И Валя подошла к нему, и они, столкнувшись, почти касаясь друг дружки головами, вдвоем держали тоненький ствол.
А там в переулке белый особняк райкома… Однажды отец взял меня с собой. Мы вошли за сверкающую островерхими пиками ограду, я подняла голову и прямо перед собой увидела огромного каменного дядьку. Ну и великан! Смотреть на него можно, только запрокинув голову — такой он высоченный. Собственно говоря, это не дядька, а пол-дядьки. У него нет ни сапог, ни даже ног. Но зато есть руки. Не руки — ручища. Вскинув их вверх, он держит в руках галерейку. Но не такую, как у Вали, — стеклянным фонариком, а широкую открытую, опоясанную узорчатой кованой резьбой.
— Балкон называется, — объясняет мне батька. — А над этим балконом — другой, а потом — еще что-то, не то навес, не то крыша. Ишь как нагрузили дядьку! А он стоит и держит все на руках. Только уперся подбородком в голую грудь.
Много позже я узнала имя этого силача, по воле богов обреченного держать на своих плечах небесный свод, а по воле архитекторов — балкон в доме дворянского предводителя. Впрочем, и тогда, когда мы впервые встретились с Атлантом, предводителя давно уже и след простыл. Только я не знала — кто это. И батька мой тоже не знал.
— Работяга, — сказал он, — крестьянин или рабочий — кому ж еще быть? Кто другой разве сдюжит?
И потом этот каменный великан еще долго не выходил у меня из головы. Вот уже совсем темно за окошками. Все спят. Только «Арсенал» не спит. По комнате пробегают отсветы. А там, за окошком, за кирпичной оградой, звенит и ухает. Может, это тот великан? Он сильный. Он сдюжит.
Задумавшись, я не заметила, как из переулка, навстречу мне шагнула высокая фигура, и Колькин голос окликнул: «Таня!»
— Ты? — удивилась я. — Напугал меня как!
— А я у вас был, — сказал Колька. — Мама говорит, ты в школе. Ну я и пошел, — добавил он, — навстречу. — Сказал и замолчал. Высоченный, без шапки, в одном пиджаке, из которого вылезают большие Колькины руки, пошел рядом. Так мы и шагали с ним вместе посередине шоссе, по горбатым булыжникам, мимо длинного ряда тоненьких деревьев, вдоль зубчатой арсенальской ограды.