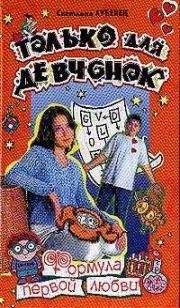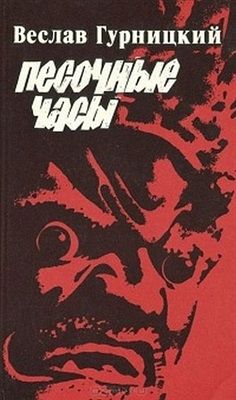Ознакомительная версия.
Арина тоже выбежала из школы. Куда же пошел Сеймур? Куда же бежать? Какая же она дура! Идиотка! Зачем она это сделала? Зачем вывесила его стихи? Он же никогда ее не простит! Она ведь не столько Павлову унизила, сколько его. Какое страшное у Исмаилова было лицо, когда он быстро прошел мимо нее к выходу из школы! Арина обежала школу кругом, заглянув во всякие укромные уголки, где частенько покуривали парни и делились своими секретами девчонки. Сеймура нигде не было. Она направилась в соседний сквер, где они обычно прогуливали уроки. На ржавых качалках тоже никого не было, если не считать грязно-рыжую кошку, сосредоточенно облизывающую свой тощий живот. Арина уже совсем хотела уйти с площадки бывшего детского городка, когда вдруг заметила в окошке покосившейся избушки его синюю с белым куртку. Она подошла к избушке, прислонилась спиной к ее бревенчатому боку у окна и сказала:
— Я знаю, что ты там, Сеймур. Ты только ничего не говори, пожалуйста… Молчи, потому что я… Я хочу попросить у тебя прощения. Это не Люда вывесила стихи и карикатуры. Это я… Я стихи у нее… украла… Не столько со зла, сколько от несчастной… любви… Ты прости, если можешь. Я от зависти это сделала. Ты Людке такие стихи написал… У меня прямо слезы на глаза наворачивались, когда я читала… Ты прости, что я оскорбила твою любовь…
Арина невидящими глазами смотрела в землю и еще долго говорила Сеймуру о своей любви. Она не оправдывалась. Она обвиняла себя во всем, ругала себя и утверждала, что ей воздалось по заслугам, что ей так и надо. Она не видела, как Исмаилов вышел из избушки и стал рядом с ней.
— Я не писал Павловой стихов, — сказал он.
Дробышева от неожиданности отшатнулась, зацепилась ногой за гнутую ржавую арматуру и упала прямо в отвратительную жидкую грязь, взметнув тучу коричневых брызг, которые заляпали и куртку Исмаилова. Сеймур протянул ей обе руки, но она не подала ему своих, измазанных отвратительной жижей. Стараясь не смотреть на него, она сама поднялась на ноги, грязная, растерзанная и несчастная. Даже с волос капала грязь.
Арина раздумывала над тем, каким путем ей лучше всего в таком виде направиться домой, когда Исмаилов вдруг сказал:
— Вот теперь я могу отдать тебе долг…
— Какой еще долг? — всхлипнула Арина. — Ты мне ничего не должен.
Сеймур притянул ее за руки к себе, обнял за испачканные плечи и нежно поцеловал в заляпанные грязью губы. Арина послала мысленное спасибо судьбе, которая вовремя подсунула ей под ноги гнутую трубу и расстелила под ней огромную грязную лужу. И абсолютно все равно, как теперь идти домой. Можно даже по центральной улице с оркестром. Она шмыгнула носом и наконец расплакалась от переполнявших ее чувств. Сеймур вытирал ей слезы и улыбался.
Глава 9 «Руслан и Людмила»
Люда шла по улице и думала о том, что теперь душа ее наконец сможет навсегда отделиться от тела и улететь в сияющие небеса. Самое время! Она подняла голову вверх. Небеса не были сияющими. Они были темно-серыми, мрачными и тяжелыми, сплошняком покрытыми свинцовыми тучами. Надо же! Даже с этим не повезло! Она специально смотрелась во все попадающиеся на пути витрины магазинов, поворачиваясь в фас. Вот они — бедра восемнадцатого века! В восемнадцатый им и надо вернуться! Люда прошла весь свой так называемый спальный район и не заметила, как вышла к безымянной речушке, отделяющей его от полей сельхоза «Заневский». Она взошла на маленький горбатый мостик, облокотилась на перила и стала смотреть в воду. Темными мутными струями речушка быстро бежала между кочек, поросших пегой поникшей травой, между обкатанными ею же бурыми камнями, что Люде совершенно не понравилось. Она перешла к противоположным перилам и посмотрела вниз.
С этой стороны не было камней и кочек. Река разливалась здесь довольно широкой заводью и плыла по своим делам не отдельными струями, а гладью, в которой отражалось и тяжелое свинцовое небо, и Людино лицо со свесившейся вниз дурацкой французской косой. И зачем только пришел к ним в класс Сеймур Исмаилов? Зачем так взбудоражил ее, Люду, и лишил покоя? Как же он не сумел понять, что она никогда не смогла бы посмеяться над его чувствами? Разве она паучиха? Ей ведь ничего от него не надо… Или это она чего-то не понимает своими математическими мозгами? Может быть, он хотел стихами сказать что-то совсем другое? В стихах ведь сплошные аллегории и метафоры, а она не привыкла мыслить метафорами. Ей легче, когда в строчках не слова, а синусы с косинусами и тангенсы с котангенсами…
Люда наклонялась все ниже и ниже к воде. Ей казалось, что она уже слышит ее призывное журчание, она почти касалась косой ее глади и даже почувствовала некоторое облегчение от принятого решения, когда вдруг услышала:
— Люсь! Ты… того… Кончай! Так и упасть можно! Пойдем домой!
Она резко отпрянула от воды и обернулась. Перед ней возвышался горой Вова Пономаренко.
— Вовка? — удивилась она. — Что ты здесь делаешь?
— То же, что и ты.
— А я… ничего не делаю… Я гуляю просто…
— Ну и я гуляю… А тебе, по-моему, уже хватит гулять. Пойдем домой, Люся! По-хорошему прошу! — И это «по-хорошему» прозвучало в его устах весьма угрожающе.
— Пойдем, — почему-то легко согласилась Люда. Вода осталась далеко внизу и больше не манила ее своим ласковым журчанием. Наваждение прошло.
Люда с Пономаренко молча шли все по тем же улицам, мимо тех же магазинов, мимо которых совсем недавно брела Люда, намереваясь никогда к ним больше не возвращаться.
Они, и Люда, и Вова, так же отражались в витринах и так же не нравились себе. Оба. Вова пытался втянуть живот, но он не поддавался и выпирал вперед здоровенным холмом. Люда презрительно улыбалась своим бедрам. Около школы она спросила Пономаренко:
— Ты все знаешь?
Вова кивнул.
— И что ты по этому поводу думаешь?
— Я не знал, что так получится… — глухо ответил он.
— В каком смысле? — остановилась посреди дороги Люда. — Ты-то тут при чем? — И вдруг она все поняла и крикнула на всю улицу: — Не-е-ет!! Этого не может быть!!
Пономаренко развернулся и боком пошел от нее по направлению к тому самому мосту, с которого только что ее увел. И теперь уже Люда бежала вслед за ним, пытаясь заглянуть в лицо и уговаривая:
— Вова! Ну погоди же! Вова!! Я же не то хотела сказать! Я имела в виду совсем не то, что ты подумал! Совсем другое!
— А что ты имела в виду? — Пономаренко наконец остановился и повернул к ней напряженное пухлое лицо. Он впервые почувствовал, что занимает в пространстве слишком много места, и впервые здорово огорчился по этому поводу.
— Я… — Люда совершенно растерялась. — Я же не могла подумать, что это ты написал! Ты никогда раньше стихов не сочинял… Мы же сто лет дружим… Ты же никогда не говорил…
— Про стихи не говорил, это верно, но про то, что ты мне нравишься, я тебе всегда говорил. Сто раз уже… Даже двести!
— Но я же думала, что это совсем другое… Ты же мне тоже нравишься, раз мы дружим столько лет! Но это же не повод, чтобы писать такие стихи!
— Люд! А хочешь, я похудею? — предложил вдруг Пономаренко, проигнорировав слова про их многолетнюю дружбу. — Давай мне любую диету, ну… хоть ту, которая с творогом! Я даже могу вообще не есть! Не веришь?
— Верю я, Вова! Конечно же, я верю.
— Я и бегать по утрам теперь согласен! Хочешь, завтра же и начнем? Я могу даже в шесть часов встать! Хочешь?
— Конечно, хочу! Начнем, Вовка, завтра же! И не надо в шесть вставать! Если встать в полседьмого, то мы все успеем! Только сейчас пошли домой, а?
И они опять шли по тем же самым улицам, мимо тех же магазинов. И молчали. И в витрины больше не смотрелись.
Возле дверей в квартиры Люда сказала:
— Пойдем к нам, поедим, а то у меня, кажется, намечается голодный обморок.
— А как же с этой… с диетой? — испуганно и радостно одновременно спросил Вова.
— А-а-а… — махнула рукой Люда. — Завтра начнешь.
Они все так же молча съели фасолевый суп, котлеты с жареной картошкой и запили все чаем с пряниками. Люда убрала в раковину посуду, села напротив Пономаренко и, подперев голову рукой, уставилась ему в лицо.
— Значит, говоришь, что влюблен? — спросила она, разглядывая его довольно симпатичные зеленоватые глаза, тонкие ниточки светлых бровей и такой же светлый ежик волос.
— А что, не похоже? — надул и без того тугие щеки Пономаренко.
— Честно говоря, не очень.
— Почему?
— Не знаю… Почему-то мне кажется, что ты, Вовка, в стихах обращался не ко мне…
— А к кому?
— Ну… к какой-нибудь абстрактной лирической героине, например.
— Ни к какой не абстрактной. Я обращался к тебе. — Пономаренко на нервной почве потянулся к хлебу, отрезал здоровую краюху, посыпал солью и начал есть.
— А если ко мне, — не сдавалась Люда, — то зачем листок в дневник засунул? Мог бы и в руки отдать.
Ознакомительная версия.