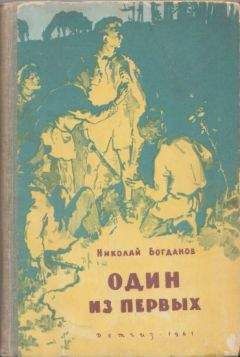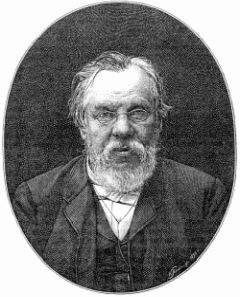Под натянутым зелёным тентом не обыкновенный груз везут: не лён-коноплю и не картошки бунты, не капустные кочаны, а отборное кулачьё.
Врагов колхозного строя, деревенских богатеев, сопротивляющихся новой жизни. Как злой сорняк, выдёргивают их из окрестных сёл и свозят к пристаням по Оке. И забирает их наша баржа.
Это я стою часовым. Меня в серой солдатской шинельке пробирает колючий осенний ветер. У меня в руках винтовка. И это я зорким глазом смотрю за хитрым кулачьём.
Возненавидел я их волчью породу с тех пор, как в детстве побывал в Лыковке. Сгубили они моего отца. Так и не удалось ему выбраться из болезни, оттого что тяжёлые камни примяли грудь.
На какое-то время помогли ему доктора. Отец почувствовал себя крепче. Он вступил в партию, в ленинский призыв, когда после смерти Ильича сто тысяч рабочих стали коммунистами.
Он даже добился, что его послали на работу в деревню в числе первых двадцати пяти тысяч рабочих-коммунистов. И выбрал себе трудный район, где засилье кулаков ещё больше, чем в родной Лыковке.
Но недолго проработал на ниве народной мой добрый отец: в канун коллективизации — простуда, воспаление лёгких, и его не стало…
Не увидел он нашего торжества над кулаками. А мне довелось это видеть и проводить в жизнь. Нас, курсантов рязанского военного училища, послали сопровождать раскулаченных.
Вот подошла наша баржа к пристани Ватажка. Пустынное местечко в приокской пойме. Болота, кустарники, волчьи угодья.
Далеко, на взгорьях, разбросаны сёла, деревни по краям лесов. И где-то за осенней лесной синью — памятная Лыковка. Так бы спрыгнул с баржи, да и пробежался по лесным дорожкам в край детства. Больно заныло сердце при воспоминании…
На пристани никого. И вдруг вижу — поспешает-торопится по осенней дороге подвода. На ней какая-то груда поклажи, а вокруг верховые.
Нам груз добавляют. Присмотрелся, и сердце ёкнуло: что-то знакомое мелькнуло в фигуре огромного кулачины, тяжело слезшего с телеги. Взлохмаченный, с седоватыми патлами, как ещё не вылинявший осенний волк. Злой, грозящий взгляд из-под нависших бровей…
Ишь, конвой-то какой, все с оружием… Четверо молодых ребят… А один-то из них с косами, заправленными под будёновку.
— Маша! — закричал я. — Маша! Сейчас меня сменят, постой!
Как раз подошла моя смена.
Прыгнул я прямо через борт — и к Маше, к Парфеньке, к Кузьме, к Ваньке-няньке. Как выросли, как возмужали!
Объятия, расспросы.
— Значит, ты, Вася, по комсомольской путёвке а военное училище? Правильно!
— Вот с кулаками управимся, и мы на учёбу, — Маша в медицину, целится.
— А Парфентий будет агрономом.
— А где Петрушков, первый ваш комсомолец?
— Убили кулаки…
— Вот одного обезвредили. Узнаёшь Трифона Чашкина?
— Узнал сразу. А Гришка, а Фролка?
— Разбежались… волчата!
И все мы примолкли. Нахмурились. Борьба ещё впереди. Молчание нарушил знакомый крикливый голос:
— Эй, пионерчик! Не угадал, что ли? Я Фроська. Помнишь, пироги-то на дорожку принесла!
Ворох на верху телеги встрепенулся, и вниз рухнула целая гора одежд, и среди них казалось маленьким краснощёкое скуластое Фроськино лицо. Она радостно бросилась ко мне, как к старому знакомому, но не устояла под ворохом одежд и повалилась.
— Ну вот, говорили мы тебе, надевай поменьше, задохнёшься от жадности!
— А ну помоги, ребята, подняться этому чучелу!
Вокруг засмеялись.
— Экая ведь, — сказала Маша, — захотела на себя надеть все наряды сразу, что в сундуке были…
— А чего же, вам их отдавать? Дарма, что ли? Они не для того были коплены! Дудки, что на мне надето, то моё… — пропыхтела Фроська.
И тут все рассмеялись.
— Ишь, как сумела воспользоваться, что носильные вещи не отбираются! Сколько же на ней, а ну посчитай.
Ребята попытались было считать, но Фроська сама упредила их.
— Шуба-борчатка — раз! Бархатная шубейка — два! Плисовое пальто — три! Душегрейка на меху — четыре! Сатинетовый полушубок — пять! Драповое пальто — шесть! Суконное пальтецо — семь! Диагоналевый костюм — восемь! Бархатное платье — девять! Муаровое — десять! Шёлковое — одиннадцать! Чесучовое — двенадцать! Нате-ка вот, возьмите-ка, всё на мне! — говорила она с какой-то азартной похвальбой, загибая подолы.
Все даже смеяться перестали от удивления: сколько же может кулацкая сноха на себя напялить!
Неожиданно Фроська окончила своё представление, не досчитав исподних одежд, и, двинувшись ко мне тряпичной горой, ласковым голоском спросила:
— А куда же вы нас, пионерчик? Что с нами будет-то? Зачем на баржу? Ай топить?
— Да и стоило бы вас… выбрать место поглубже, — сказал мой товарищ курсант, у которого кулаки убили недавно отца, председателя первого колхоза.
— Нельзя так, товарищи, — подошёл наш комиссар. — Этим людям надо разъяснять, что мы уничтожаем их класс, но не их лично. Всем им будет дана возможность жить и трудиться, не эксплуатируя других, в новых местах.
— Это где же? — полюбопытствовала Фроська. — В лесах иль в степях? В моих-то одёжах я нигде не пропаду. И-их! — Она попыталась озорно повернуться и притопнуть, но снова не устояла на ногах и повалилась.
Так мы её и внесли на баржу на руках, как наряженное чучело, под смех и шутки.
Трифон вошёл сам, спокойный и злой. И, когда баржа отчалила и течением отвалило нас в омут, вдруг вскочил на борт, закрыл лицо воротником свиты и шагнул в реку.
Вытащить его не удалось, камнем ушёл под воду.
Когда улёгся весь шум, поднятый его последним злобным поступком, удивила всех Фроська.
— Туда ему и дорога, — сказала она. — Свёкор с печки, а мне легче… Теперь я свободная!
И она кокетливым взглядом стрельнула по молодым лицам курсантов.
Вот и всё.
Такое вот было время, такие дела, такие люди. И я там был, и хлеб с ними ел, и квас с ними пил. И ничего-то, ничего не забыл.
И иной раз так рассказать хочется, что удержу нет. И, что было дальше, лучше вы меня не расспрашивайте, а то как начну, так и не кончу до утра…
А костёр наш догорел, и хворосту больше нет, и давно уже горну пора играть отбой.