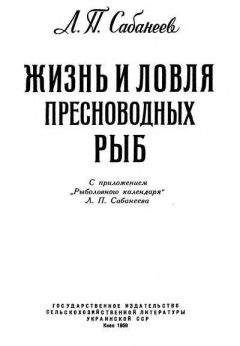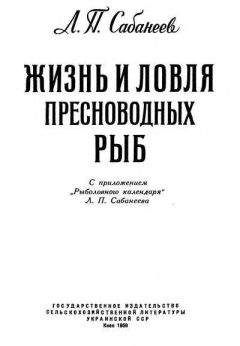И новые стихи я бы охотно прочитал, те, которые появились, когда Вок не смог поехать в Ружомберок. Они мне очень нравятся. Лучше, конечно, если б я сам написал стихи. Но только я не могу, потому что не умею. Но если бы я когда-нибудь научился их писать, мне вовсе не хотелось бы, чтоб в них рылась Габка или кто-нибудь другой.
Я тоже никогда больше не стану читать стихи Вока — только если он сам даст.
А это значит никогда.
* * *
— Сегодня мы будем спать в комнате предков, на полу, — сказал мне Вок. — Пятнадцатую надо освободить.
— А почему?
Йожо ничего не ответил, но я и без него прекрасно знал, почему. Потому что приедет Яночка со своими родителями, а все комнаты заняты. Могу себе представить, как мама про себя восторгается, что ее Йоженька нашел себе такую порядочную девушку. Ха! Порядочную! Захочется ей — напишет письмо; не захочется — не напишет. Да только мама имеет в виду совсем другое, хотя бы то, что Яну не пускают одну лазать по горам. Наша мама жалеет всех родителей, у которых дочери ночуют в палатках вместе с мальчишками.
Я и сам однажды пожалел одну такую (не родителей, а ее), когда совсем поздно вечером она прибежала к нам в дом с сумочкой в руках, полуодетая, и попросила отца, чтобы мы пустили ее переночевать. Я слышал, как она плакала на кухне и что-то рассказывала маме. А самое отвратительное, что утром к дому явилась целая ватага ребят и девчонок. Сначала я и сам смеялся, когда они грохнулись на колени и стали нараспев выводить: «Явись нам, о святая Орлеанская дева!» Но когда девушка вышла и даже улыбнулась, они принялись швырять в нее ее вещами так, будто это были камни. Я обозлился и побежал искать Йожо, чтоб он им дал как следует. Но только вдруг ни с того ни с сего на них заорал кто-то из своих же ребят. Он взял и уехал вместе с этой девушкой.
Я понимаю, это был просто розыгрыш, но, по-моему, если кто-то плачет, нужно прекращать всякие шутки, потому что это уже не веселье, а тоска.
Но мне все равно не ясно, почему нужно жалеть родителей. Между прочим, когда ребята сидят вечером возле костра и до самой ночи поют песни, я начинаю им завидовать, а мама уговаривает отца, чтобы он не прогонял их.
Но только Йожина Яночка — это дело другое! Маменькина дочка со слюнявчиком (у нашей Габульки еще сохранился один такой), такая в палатке ночевать не может. Тсс! Еще козявка в ушко заберется. Вот мы какие кисоньки!
Я просто умираю от любопытства, что это за явление.
— Давай пошевеливайся! Понесем матрасы с чердака, — подгонял меня Йожо. — Юлька хочет перенести нашу постель из пятнадцатой.
Он еще будет командовать. «Юлька»! Наша Юлька по уши втрескалась в своего летчика и для Йожо расшибется в лепешку, потому что воображает, будто он тоже влюблен. Очень возможно, что так оно и есть. Если судить по стихам, то по уши и до самой смерти. Я отправился в комнатку родителей. Как мы разместимся здесь втроем на полу? Я стал измерять пол шагами и помешал Иветте писать письмо «дорогой мамочке», но тут зазвонил телефон. Я поднял трубку.
— Алло, кто там? Отвечайте! — кричал на меня кто-то генеральским голосом, и я тут же узнал моего одноклассника Дэжо Врбика из Мыта.
— Главный штаб партизанских войск генералиссимуса Дюрая Трангоша слушает! — заорал я в ответ, и мы оба захохотали.
— Как вы поживаете, генералиссимус? — продолжал Дэжо дальше по-русски, и я уже готовился ему по-русски отвечать, когда Дэжо вдруг снизил голос: — Отец идет. Вам телеграмма. Потом позови меня опять!
Телеграмма была короткая, но очень важная.
— Адрес: «Трангошу Йозефу», — диктовал почтмейстер. — Текст: «Больна не приедем». Подпись: Яра, не то Юра, не то Яна. Отправлено из Ружомберока в 11.05 Записал?.. Как поживает отец? Передавай привет.
Я ответил телеграфным языком:
— Уже записано. Отец поживает хорошо. Привет передам. Дядя, позовите мне, пожалуйста, Дэжо.
Я ничего не записал: это вполне естественно. Такую телеграмму запомнит и обыкновенный фокстерьер, а фокстерьеры, как известно, самые глупые собаки. Главное, что ее запомнил Йожо. Больна! Ну, что я вам говорил?
Подул на меня ветерок,
Не жди меня, дружок.
Ага! Стихи! А ну-ка попробую дальше:
У меня мокрый носочек,
Готовь мне, Йожо, платочек.
Нет, очень глупо! Глупо и то, что я смеюсь. Добро бы, мне было смешно, так ведь не смешно же вовсе. Да и что тут смешного? Яна заболела. И Вок будет ходить грустный. Ничего смешного в этом нет. Смешно было только, когда Дэжо разговаривал со мной по телефону по-русски: «Как поживают ваши солдаты?» По русскому языку у него двойка, но просто поболтать по-русски он умеет отлично.
Опять зазвонил телефон.
— Довольно, товарищ хулиган! — закричал я. — У меня-то по русскому четверка.
— Представь себе, — сказал Дэжо уже по-словацки, — послезавтра приедет Квачка!
Квачка — это наша учительница Квачкова. Она снимает у почтмейстера мансарду. Но нас, к сожалению, не учит.
— Она должна являться за неделю до начала занятий, представь себе!
— Представь себе, — начал я его передразнивать, — что меня одолевают сомнения, не отправиться ли мне на недельку в Братиславу, представь себе!
— А мне, представь себе, в Прагу.
— Но меня одни тут хотели взять с собой в Братиславу, прокатить на розовом «Спартаке», представь себе. Факт!
— А за мной прилетали прямо из Пражского кремля на серебряном самолете, представь себе!
— Ну и поезжай, балда!
— Только после того, как ты съездишь, тупица!
Потом мы еще некоторое время великолепно, ну просто великолепно переругивались, пока Иветта не зажала уши и не выскочила вон из комнаты.
— Воздух очистился, — сказал я нормальным голосом.
— А кто там у тебя был?
— Да двоюродная сестра.
— Которая? — ахнул Дэжо.
— Не бойся, не Зуза.
Ему в прошлом году очень нравилась моя двоюродная сестра Зуза из Бенюша. Дэжо готов бегать за каждой юбкой, потому что он девчатник. Сколько он мне нарассказывал про девчонок из Мыта! Но, по-моему, это такая же правда, как серебряный самолет и Пражский кремль.
Когда Дэжо в прошлом году увидал у нас Зузу, то полдня ходил красный как рак и позабыл сразу все языки, не только словацкий или русский! Герой! А потом в школе хвастался, что летом бегал за одной девчонкой. Это он имел в виду нашу Зузу. Х-ха-ха!
— Передай ей от меня привет, — начал он опять выхваляться.
— Кому? — спросил я.
— Ну своей сестрице.
— Передам! Ей три года. — Я специально наврал про Иветту.
— Ну и? — соображал Дэжо. — А ты разве не любишь трехлетних детей?
Выкрутился, негодник!
— Послушай, Дюро, — снизил Дэжо голос и, наверное, прикрыл рот ладошкой. — Принесешь?
— Еще не знаю.
— Как, то есть, не знаешь?
— Но у меня еще этого нет.
— А будет?
— Не знаю наверное.
— Послушай, может, тебе уже на все наплевать?
— Нет, не наплевать. Только у меня пока еще этого нет.
— Так ты кто, друг или тряпка?
— А ты тапочка!
— А ты онуча!
— А ты военный сапог!
— А ты цыганская туфля!
И мы начали опять. Мы ругались как только умели. А потом мне вдруг пришла в голову мысль: если нас кто-нибудь слушает, догадается ли он, что это беседуют лучшие друзья? Неизвестно. Ха-ха!
Когда мы перечислили всю обувь, которую знали, тапочки и онучи, Дэжо принялся за животных. Мы дошли до шакалов, и я собирался обозвать его гиеной, но тут в комнату вошла Юля. Я быстренько перешел на русский язык, чтоб она ничего не поняла. А так как я не знаю, как будет гиена по-русски, то вернулся к началу разговора:
— Не беспокойся, все будет. У нас еще семь дней времени.
— Что значит «семь времени»? — продолжал дурачиться Дэжо. Да только, наверное, вошел его отец, потому что он вдруг сказал нормально: — Значит, договорились, генералиссимус?
— Договорились, пижон. — И я положил трубку.
Юля сердилась, что я еще не принес матрасы.
— Сделай одолжение и отнеси простыни обратно, — сказал я. — Визит отменяется. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. А если не станешь спешить, то не будет надобности вообще таскать матрасы…
Йожо поначалу не хотел мне верить. Пошел в комнатку, заперся там и сам позвонил почтмейстеру. А потом ушел в лес. Когда он проходил мимо Марманца, где мы с Габкой сидели на лавочке и ели хлеб с маслом и луком, то нарочно засвистел. Но я смотрел на него и видел, что он поднимается в гору медленно и тяжело, совсем как заболевший олень. Когда олень захворает или его ранят охотники, он не корчится от боли и не стонет, чтоб его все звери жалели. Он уходит из стада и один бредет в лес. Там он отыскивает себе укромное местечко, чтобы никто ему не мешал и не беспокоил, ложится и ничего не ест, только тихо лежит и ждет своего последнего часа. Иногда случается, что он выздоравливает. Но только не зимой и не в дождливую погоду. И вообще это случается очень редко. Но если оленю все-таки улыбнется счастье и он почувствует, что его последний час еще не пробил, он начинает медленно объедать траву вокруг себя. А когда может уже подняться на ноги, то еще некоторое время пасется один. И лишь набравшись сил, вновь возвращается к стаду.