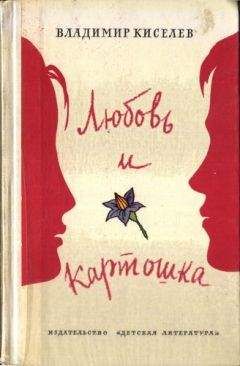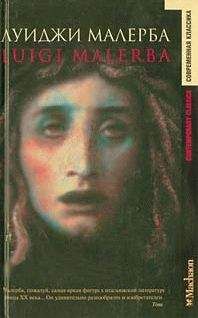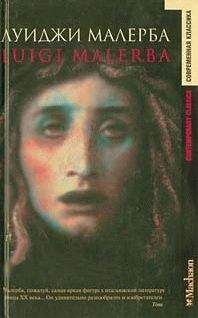— От всего они антибиотиками лечат,— говорила она в телефонную трубку. Она стояла перед открытым окном, и Сереже было хорошо ее слышно.— И от головы, и от живота. И людям — антибиотики, и свиньям — антибиотики... Что?.. Ты мне про журнал «Здоровье» не говори... Сколько уже хороших людей померло от самолечения... Что?.. Научно это у людей совсем иначе делается... Возьми одну пчелу... Что значит «как возьми»? За крыльца. Посади ему туда, где спина кончается... Да нет, ниже. Через три часа температуру померишь. Если нормальная — назавтра посадишь уже по две пчелы, на обе половины... Записала?.. Дальше. Доведешь до шести... Нет, нет! На каждую! Температуру меряй каждый день. Если повышенная — пчел не сажай. Все записала?.. Что спасибо?.. За квартиранта?.. А что у них там?.. Опять черепки? Золота не нашли?.. Подожди возле трубки, я сейчас...
Бабушка положила трубку на стол, подошла к окну, выглянула, вернулась и снова подняла трубку.
— Так я и знала,— сказала она.— Слышу, бычок мычит. А это Сережа взял мою красную шаль и дразнит его. Как тореадор... Да, да. Тот самый... Подрос уже...
«Тот самый» бабушка сказала не о Сереже. О бычке. И Сережа тоже вспомнил, как тяжело появился на свет этот Ганнибал-второй. Это случилось в воскресенье. Бабушка ушла в Залесье в церковь. Отец уехал в район. Мама была на дежурстве в больнице. А у коровы начались роды. Очень трудные. Зорька ревела. Сереже казалось, что из глаз у нее катятся слезы. Она смотрела на него так, словно просила о помощи. Но теленок все не появлялся. Сережа хотел побежать позвать соседа зоотехника Стоколоса, который хорошо разбирался в ветеринарии, но боялся оставить корову.
И тут он увидел, что вышли передние ноги — слабенькие, свисающие, словно тряпичные. И Сережа стал осторожно вытягивать бычка за эти черные бархатистые ножки.
Обошлось. Родился бычок целый и невредимый. Сережа обтер его полотенцем, прочистил пальцем маленькие горячие ноздри и поднес Зорьке. Корова благодарно посмотрела на Сережу и старательно облизала бычка. А теперь вот какой богатырь вырос...
— Ну как же тебе не стыдно, — снова выглянула в окно Сережина бабушка.
Сережа подхватил ее слова и немедленно переадресовал их бычку:
— И в кого ты такой удался? Вырастешь, будешь волам хвосты крутить... Тебе бы все по улице бегать или про войну читать...
Бабушка посмотрела на бычка, который слушал Сережу с покаянным видом, покачала головой и вернулась к телефону.
«Очень интересно читать про войну,— думал Сережа.— Я ведь знаю, чем война закончилась: нашей полной победой. И все равно не могу удержаться и заглядываю в конец книги. Очень хочется узнать, кто остался жив, а кто погиб. Если бы я писал книжки, то у меня бы все хорошие люди остались в живых, а погибли только плохие. Иначе как-то несправедливо получается».
Недавно Сережа прочел рассказ о том, как командир взвода бежит впереди солдат с развевающимся знаменем в руках. Пули и осколки, как град, бьют по красному полотнищу. И вот уже кровь течет по рукаву.
«Товарищ младший лейтенант,— догоняет его солдат.— Вы ранены!»
«До свадьбы заживет!» — отвечает младший лейтенант. Но ошибается. Он падает, сраженный еще одной вражеской пулей.
Солдат подхватывает знамя. И вот он уже втыкает знамя в землю над вражеским дотом. В амбразуру летят гранаты, дот взят.
«А мне младшего лейтенанта все равно жалко, — думал Сережа.— И если бы это он, а не солдат воткнул в землю, это называется водрузил, знамя над вражеским дотом,— если бы он остался жив, так от этого рассказ, по-моему, ничуть не стал бы хуже.
Но интереснее всего читать про знакомых. Вот у нас все село читало «Анну Каренину». Потому что это про учителя Виктора Матвеевича и про его жену Анну Васильевну. Виктор Матвеевич на курорте, в доме отдыха, полюбил Анну Васильевну, которая тоже была женой генерала, и женился на ней. Генерал очень обижался, но ничто ему не помогло. А кинофильм «Анна Каренина» в селе Вульбы не показывали. Киномеханик сказал, что это неудобно. Анна Васильевна — директор школы. И нельзя подрывать ее авторитет. Те, кто хотели посмотреть этот кинофильм, в район ездили.
Конечно, в жизни все не так, как в книге. Анна Каренина бросилась под поезд. И если бы Толстой не написал своего романа, так и Анна Васильевна, может быть, тоже что-нибудь такое сделала. А так она уже знала, как нужно, и преподает математику. Вронский уехал на войну, и, что с ним было дальше, никому не известно. А Виктор Матвеевич заболел и умер. И еще у Анны Васильевны не сын, как у Анны Карениной, а дочка Наташа. И в этом вся штука»,— думал Сережа.
Заслуженная, столичная, очень красивая и не очень молодая певица пела романс Чайковского «Средь шумного бала». И так легко, так естественно лился ее голос, что казалось, это о ней самой говорится в романсе «и голос так дивно звучал, как звук отдаленной свирели». Аккомпаниатор, тоже очень красивый пожилой человек, смотрел на нее влюбленно и преданно, и сельский Дворец культуры замер, затаил дыхание. И было в этом молчании не только стремление впитать каждую ноту, насладиться музыкой, не только восхищение, а и еще что-то более сложное. Так молчат у постели больного.
Бабушка Сережи Кулиша, Галина Федоровна, в зал не пошла, а осталась в фойе. Она опоздала, зал уже был полон, и теперь она то садилась на скамью, составленную из привязанных в ряд к жерди стульев, то приподнималась, разглядывая певицу сквозь открытые в зал двери.
По поводу концерта Сережина бабушка надела новенькое, еще не обмятое платье из плотной черной ткани, блестевшей, как рояль на сцене. И при каждом ее движении платье похрустывало, как капустная кочерыжка в мальчишеских зубах.
Она помнила эту певицу, Елизавету Дмитрук, теперь заслуженную-перезаслуженную, Лизкой, пучеглазой, худенькой девчушкой-сироткой. Родители ее погибли в войну, и воспитывалась она в семье Тараса Федченко, неродного своего дяди. Там, где теперь воспитывался и Эдик.
«А Эдика небось дома оставили,— неодобрительно думала Галина Федоровна.— Хотя он бы никому тут не помешал. Он тихий мальчик. И добрый. И чистый. И его любят в селе. И жалеют его, и неродного его деда Тараса,-и его мать певицу Елизавету Дмитрук».
Эдик был для села как бы постоянным напоминанием: вот жалуются люди, что у них то не так, это не получилось, а как увидят Эдика — высокого, красивого, с доброй, чуть виноватой улыбкой, — так сразу каждый понимает, что все это мелочи, а бывают на земле такие несчастья, которым нет и равных.
Эдику, как и Сереже, было пятнадцать лет, но в своем умственном развитии он остановился на четырех, от силы пяти годах, и остался таким. Была, правда, у него одна особенность, которая всех удивляла. В голове у него словно электронно-вычислительная машина щелкала. Его даже в специальный институт возили. В Москву. Но и там не разобрались.
Это был первый концерт Елизаветы Дмитрук в родном селе. Прежде она сюда не приезжала, словно была в чем-то виновата. Эдика на праздники старый Тарас Федченко возил к ней в Москву.
«А чем она виновата? — покачивая головой в такт романсу, думала Галина Федоровна.— И никто тут не виноват. Просто у нее гордость такая, что не хочет она видеть, как смотрят на нее с сочувствием. И уж, наверно, теперь она никого тут и не узнает. А интересно бы спросить,— думала Галина Федоровна,— помнит она, как я ей сахару-рафинаду дала кус чуть не с кулак. И как она грызла его потихоньку, как мыша. Тихая была девочка. Только разве спросишь?..»
Певица помнила об этом куске сахара и обо всем остальном. Но когда приехала, о Галине Федоровне не осведомилась. Она здесь давно не была и боялась, что в ответ услышит: «Умерла».
Она глазами разыскивала Галину Федоровну. Память на лица у нее была особая, резкая, цепкая, она бы ее сразу узнала. Но ее в зале не было, а было очень много лиц совершенно не знакомых и вместе с тем очень знакомых; она узнавала в них не тех, кто сидел в зале, а их родителей, даже их дедушек и бабушек.
«Вон Кулиш,— подумала она о Сереже.— Широконосый, как все Кулиши. А кто с ним рядом — не знаю. Наверное, из новых...»
Певица так много раз пела этот романс, что могла совершенно свободно думать о другом, и никто этого не замечал, и она сама этого не замечала.
«Какое лицо у этого мальчика, у этого Кулиша»,— подумала певица. Она уже давно не видела или не замечала таких лиц. Оно было словно освещено изнутри надеждой, нежностью, чистотой помыслов.
Сережа держал за руку Наташу. Он не мог бы объяснить, как это получилось, но это получилось, и Наташина рука сама оказалась в его руке; и вокруг был прекрасный, сверкающий, светящийся счастьем и радостью мир, и певица пела замечательный романс, и Наташа... И Наташина рука была в его руке...
Еще недавно Сережа, как, впрочем, и многие другие его сверстники, искренне считал, что если у композитора не получилась песня, то он называет ее романсом. Ему казалось, что романсы — это те же песни, только второго сорта.