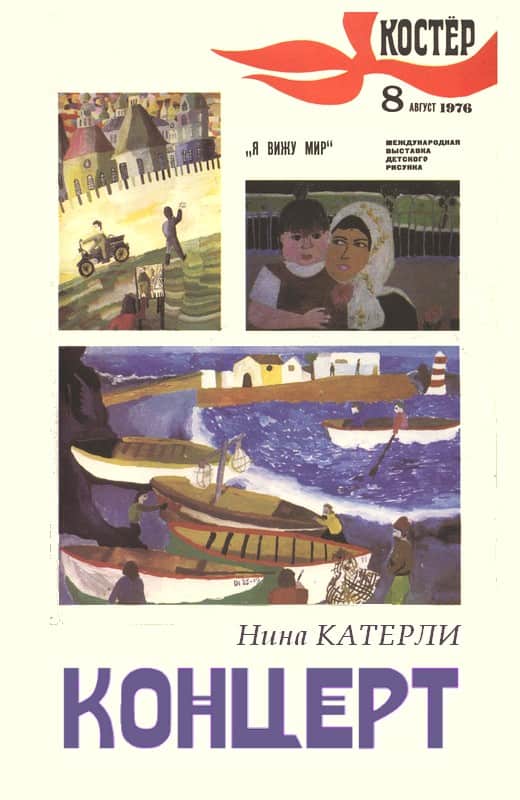поэтому температура сдалась и упала. Теперь Колька не бредил, зато сделался вдруг ужасно худым и серым, а голос у него стал тихим и тоненьким, как у девчонки.
— Кормить его надо, а то — кожа да кости, — вздыхала Анфиса.
Однажды утром я пришла в сарай и увидела, что курицы там нет. Я бросилась на поиски. Искала в саду, во дворе за поленницей, в огороде. Курица исчезла.
Когда вся зареванная я прибежала домой, Колька лежал, с головой закрывшись одеялом.
— Курицы нету! — закричала я с порога.
Колька не ответил, и тогда я села ему в ноги и стала реветь. Я ревела нарочно громко, чтобы он услышал и проснулся.
— Перестань, — вдруг сказал Колька из-под одеяла.
— Она пропала…
— Она улетела, — сказал Колька, — сейчас осень, и она улетела… в теплые края.
— Курицы не летают.
— Некоторые летают. Ясно? И реветь тут совершенно нечего!
Обед в этот день почему-то был у нас праздничный, совсем как до войны — бульон и котлеты. Я съела полную тарелку, Колька — тоже, только он ни с кем не разговаривал и глаза у него были красные.
— Эх-ма! — дед вдруг махнул рукой и вышел из-за стола, грохнув табуреткой.
Колька отвернулся к стене, а я подумала, что у него, наверное, опять поднялась температура и он бредит.
А через два дня я писала маме:
«Дорогая, милая мамочка! Как ты думаешь — горе или радость? Радость! Дед принес нам с Колей маленького котеночка, он черный с белым треугольником на животе. Его зовут Кузьма. Скоро война кончится, все станет по-мирному, я вернусь в Ленинград и привезу с собой Кузю. Так что ты, мамочка, не заводи, пожалуйста, кота. Коля поправляется, потому что ему дали куриного супа. Я думаю, что нашу курицу зарезали, а Колька говорит, что она улетела в теплые края. Только я уже не маленькая и знаю, что курицы летать не умеют. Даже петухи и те не умеют. Курицу ужасно жалко, но зато дед сказал, что теперь Колька обязательно выздоровеет… А Коля говорит, что как встанет, так сразу пойдет в военкомат и попросится на фронт к партизанам. Но это секрет. Целую тебя тысячу раз. Твоя дочь.
Смерть Гитлеру!»