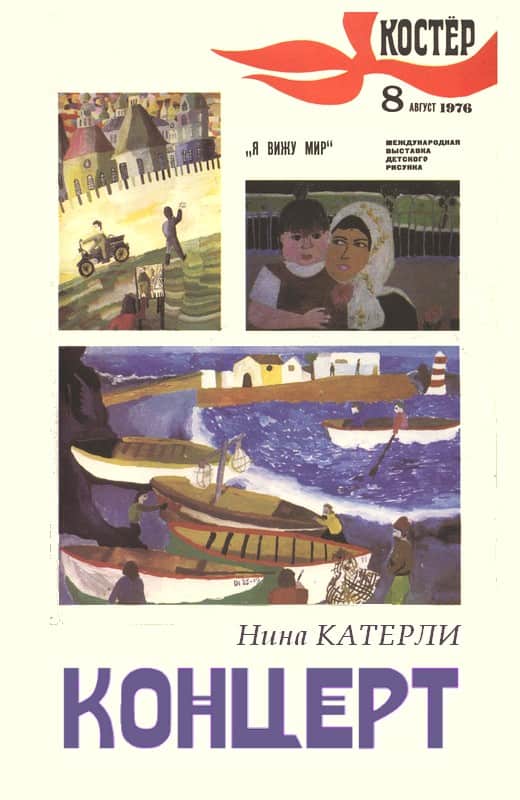самый главный, самый коварный вопрос:
— Для чего же… голова?
Фриц замер, разинув рот. Члены комиссии злорадно переглянулись. Убитые родители замерли — они тоже не знали ответа на этот вопрос. Наступила тягостная пауза. Колька топтался, беспомощно озираясь, и раненые в зале забеспокоились. Им стало жалко Кольку, — наверное, они подумали, что он забыл слова.
Доведя напряжение до предела, Фриц вдруг ударил себя пальцем по лбу и объявил торжественным голосом радиодиктора:
— Чтоб носить стальную каску! Или газовую маску! И не думать ни-че-го!
— Фюрер мыслит за него, — с молитвенным восторгом прошептала мама.
— Рада мама! Счастлив папа! — кричал ведущий, а родители Фрица обнимались и утирали слезы умиления.
— Фрица приняли! В гестапо! — хором сообщила комиссия.
Тут Колька выдал свой «коронный» номер: вскинул руку для приветствия и всем телом грохнулся об пол. Хохот в зале долго не утихал. Потом раздались аплодисменты.
Второе действие, кончавшееся для юного Фрица весьма печально — гибелью в снегах России, — тоже имело большой успех.
Сначала фашист прошелся по сцене с огромным полосатым мешком, откуда потом, причмокивая от удовольствия, вынимал и раскладывал на полу наворованные «трофеи»: «гамаши для мамаши», большой клетчатый платок и даже настоящий самовар, вызвавший почему-то громкий смех в зале. Но недолго радовался жадный Фриц. Русский Дед Мороз — Генка Кожанов, с длинной ватной бородой и деревянной лопатой встал над ним и произнес свой приговор фашисту.
Но вдруг, сказав все, что ему полагалось сказать по роли, он зачем-то подмигнул Кольке и громко спросил:
— Ну, что, съел, Фриц несчастный?
Этого не было в пьесе. Уж кто-кто, а я-то знала ее наизусть. Кожанов просто дразнил Кольку, я поняла это сразу. И ребята из Колькиного класса тоже поняли. Генкин приятель Рыбин злорадно фыркнул, хлопнул в ладоши и противным голосом завопил прямо из зала:
— Фриц! Фриц! Фриц!
На него зашикали, и тут Колька кинулся на Генку, ударил его кулаком в нос и повалил на пол. Генка вырывался, извиваясь, толкая Кольку коленями в живот, но тот уселся на него верхом, вцепился в приклеенную бороду и дернул ее так, что она наполовину оторвалась. В зале заволновались. Колькина учительница Анна Ивановна вскочила с места и прижала руки к груди.
— Колька! — закричала я что есть мочи. — Колька! С ума сошел!!
И Колька опомнился. Отпустив ватную бороду Кожанова, он поднялся на ноги и, словно потеряв последние силы в неравном бою, покачиваясь, отошел в сторону. Оторопевший Генка встал тоже. Неуверенным голосом он повторил слова роли, сказанные им перед дракой, и тогда Фриц стал замерзать. Он трясся, катался по сцене, прыгал, натягивая на себя украденный платок, и даже пытался погреться о холодный бок самовара. Напрасно! Обессиленный, он лег на живот, завыл, подергался и затих, а девочки-снежинки в марлевых юбочках станцевали над его окоченевшим телом победный танец.
Кольку вызывали восемь раз. Он выходил, раскланивался, а раненые опять и опять хлопали и кричали «бис»…
Концерт удался. Все выступали хорошо — и Майя Комиссарова, читавшая «Жди меня» Симонова и растрогавшая до слез медсестру Анфису, и ребята из нашего класса, исполнявшие русскую пляску, и знаменитый сводный хор — гордость Бориса Семеновича.
Нас очень благодарили за выступление, даже устроили банкет — на столах были расставлены стаканы с «суфле» — напитком неопределенного цвета, который был сделан из сои и казался нам невероятно вкусным, морковные пироги и бутерброды со свиным жиром, который назывался «лярд».
Я кончила есть пирог, когда вдруг почувствовала чей-то взгляд, обернулась и чуть не подавилась — на меня как-то боком надвигался Борис Семенович. Обращаясь ко мне почему-то на «вы», он, задыхаясь, спросил:
— Как вы могли?! Ведь это же было чудовищно!
Мне вдруг стало ужасно жалко Бориса Семеновича, хоть я и была уверена, что от моего громкого пения наш литературно-музыкальный монтаж только выиграл.
— Я нечаянно. Я забыла, — бормотала я. — Вы не расстраивайтесь, я больше не буду. Никогда, ни за что!
Борис Семенович махнул рукой и, сгорбившись, пошел прочь. Пирог я так и не доела.
Утром, после первого урока, меня вызвали в учительскую. Я вошла и остолбенела у порога: за столом сидели Надежда Федоровна, Борис Семенович и… комиссар нашего госпиталя.
Когда я вошла, Борис Семенович встал, потер зачем-то лоб и тихо произнес:
— Прости меня, пожалуйста. Вчера я был неправ. Дело в том, что госпиталь — аудитория специфическая…
Я не понимала, о чем он, и от страха попятилась к двери.
— В госпитале — зрители и слушатели особенные, понимаешь? — объяснил мне комиссар и добавил: — Да ты иди сюда, ближе, не бойся.
Я подошла к столу.
— Твой громкий голос, — продолжал Борис Семенович, — сыграл некоторую положительную роль…
— Не некоторую, а очень даже большую, — улыбнулся комиссар, — тебя было слышно во всех палатах и даже во втором этаже, а там лежат раненые, которых нельзя было доставить в зал даже на носилках. Так что — личный состав госпиталя благодарит тебя и просит петь у нас почаще. А вообще — все вы, конечно, молодцы.
После уроков Колька подрался с Кожановым. Разнимала их наша Надежда Федоровна. Минут двадцать пыталась она выяснить причину драки — оба молчали. Наконец все-таки Генка признался, что дразнил Кольку «Фрицем».
— А чего он? — ворчал Генка. — Подумаешь — знаменитость какая нашлась! Я и в госпитале нарочно сказал «Фриц», а то развоображался, думает, что только ему раненые хлопают.
— Как тебе не стыдно, Кожанов! — сказала Надежда Федоровна. — Ты, значит, просто завистливый человек. Ведь из-за тебя весь спектакль мог провалиться, если бы Коля вовремя не взял себя в руки.
— Чего же я, не понимаю, что ли! — сказал Колька. — Я только сперва разозлился, а потом вспомнил…
К следующему концерту Кольке поручили выучить отрывок из «Василия Теркина». Колька очень обрадовался: Теркин — это все-таки не юный Фриц. Наверное, он надеялся, что после выступления его станут звать в школе Васей Теркиным.
Целыми днями дома и в школе он теперь бубнил:
«В поле вьюга-завируха,
в двух верстах гудит война,
на печи в избе — старуха,
дед-хозяин у окна…
…А старик как будто ухом
по привычке не ведет.
«Недолет. Лежи, старуха».
Или скажет: «Перелет».
На новогоднем празднике в госпитале Колька очень хорошо прочитал свой отрывок и опять получил много аплодисментов.
Но главная надежда его все-таки не сбылась: вместо «Теркина» его стали звать почему-то «Дед-старуха». Но он уже не дрался.