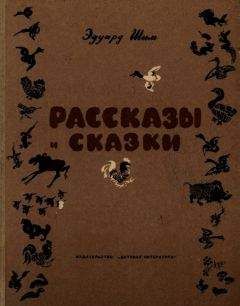— В косую, — сказала Лера. — Чего бы мне съесть такого? Я возьму бутерброд с икрой, селедку и два пирожных. Ничего?
— Ну! — сказала Марья Никитична. — Еще бы! Селедка с пирожным.
— Ой, а мне хочется.
Ей действительно хотелось и селедки, и пирожных, а почему так — она про это не думала. Она давно сказала себе, что надо поступать, как хочется, и не размышлять по пустякам, не доискиваться причин. А то выйдет хуже… Например, с детства нравилась Лере сладкая картошка; все кругом смеялись, когда Лера сыпала в картофельное пюре сахарный песок. Все насмешничали, как могли, а Лера знай себе ела за обе щеки и была довольна. Но вот она задумалась однажды, захотела выяснить причину. И вспомнила, что, когда была маленькой и жила в Гурьевске, отец приносил с завода мороженую картошку. Склизкую, в синих пятнах, похожую на хозяйственное мыло. И сладкую. Голодно тогда было; картошку готовили на завтрак, обед и ужин, — и Лера, очевидно, привыкла к ее сладкому привкусу. И, сообразив это, припомнив послевоенное свое детство, Лера пригорюнилась как-то, заскучала. Пожалела себя. И сладкая картошка с того дня разонравилась ей.
Нет, лучше не задумываться по пустякам.
Лера допила чай, лимонной корочкой потерла пальцы, чтоб не пахли селедкой. Посмотрелась в зеркальце, собираясь поправить криво намазанную краску на губах. Но, увы, краска была съедена вместе с селедкой.
За столик присел, стукнув бутылкой кефира, актер Митя Грызунов. Герой-любовник Грызунов был молодой, но уже знаменитый: снимался в кино, выступал по телевизору и в концертах. Популярность завоевал такую, что прохожие на улицах оглядывались и указывали на него пальцем. Вечерами, после спектаклей, Митю ждала у подъезда нервная толпа десятиклассниц. А Митя боялся их смертельно, злился и популярность свою тоже ненавидел. Скромный он был человек, прилежный семьянин, отец двух дочерей. Не ради славы мотался по концертам и съемкам — просто двухкомнатную квартиру строил в кооперативе.
— Привет, — сказал Митя. — Кто тебе глаз подбил?
— А заметно?
— В темноте фонаря не надо…
В сегодняшнем спектакле Митя играл молодого, но уже беспутного, запутавшегося в любовных интригах фотокорреспондента. Того самого, по ком Лера страдает. В последней картине фотокорреспондента изобличат, Лера отвесит ему пощечину. Это безобидно делается: Митя незаметно заслонится ладонью, прикроется, и Лера с оттяжкой хлопнет по этой ладони, оглушительно хлопнет, на радость зрительному залу. Однажды Митя не успел закрыться, а Лера уже замахнулась и — делать нечего! — хлопнула прямо по щеке. И совсем не эффектной вышла пощечина, не поверил в нее зритель.
— Младшая-то у меня разговаривает! — взбалтывая мутный кефир, похвастался Митя. — Проснулась в пять утра, и давай: «Агы-ы, агы-ы!..» И сама от радости захлебывается.
— Сколько ей уже?
— Вчера семь месяцев стукнуло, — сказал Митя. — Грандиозная девка. На горшок просится, представляешь? Марья Никитична, у вас антоновских яблочек нету? Говорят, надо антоновку давать, чтобы зубки скорее росли.
— Китайские есть, — отозвалась Марья Никитична. — Тоже кислые, вырви глаз…
— Нет, надо антоновку. Сорвусь завтра с репетиции, поеду на рынок, — сказал Митя, встретился с Лерой взглядом — и смутился, даже под гримом порозовел. Она тоже смутилась. И оттого, что оба заметили это смущение, не могли с ним справиться, вышло совсем неловко. Митя отвернулся, притих над своим кефиром. Стало слышно, как подвывает у Марьи Никитичны холодильник и плещутся, бурлят сосиски в кастрюле.
«…Для чего люди на свете живут?!» — рявкнул в углу пластмассовый репродуктор и захрипел, закашлялся. Это там, на сцене, продолжался спектакль. Колхозный кузнец, философ, объяснял зрителям смысл жизни: «Чтобы след на земле оставить, вот зачем люди живут! Я так понимаю!..»
— Нет, все-таки художественная пьеса, — произнесла задумчиво Марья Никитична, облокотись на прилавок. — Чего вам не нравится? В современных-то пьесах или бесстыдство, или не разбери-поймешь, никакого складу. А тут хорошо высказываются… Песни красивые. Почему частушки-то сегодня не спели?
— Гармонь болеет.
«…Жизнь прожить — не поле перейти!» — крикнул репродуктор и помолчал, дожидаясь аплодисментов.
Лера посмотрелась в зеркальце, показала себе язык. Ай-яй, скоро тридцать лет актрисе, а не разучилась краснеть. Инфантильная старушенция.
— Митьк, — сказала она. — А я уже все забыла. Когда вспомню, просто не верится!
Митя посмотрел на нее снизу вверх, и сконфуженным было его лицо. Покорно все принимающим. И все-таки недоверчивым.
— Правда, Мить! — повторила Лера, поднялась, чмокнула Митю в кудрявое шелковое темечко и, засмеявшись, побежала по лестнице, перескакивая через две ступеньки.
V
Начался первый антракт. Актеры толпились в коридорах; прохаживался режиссер, глядя себе под ноги, покуривая папироску от астмы; скользил и мгновенно скрывался Лев Левыч, утрясая свои таинственные администраторские дела. Появился улыбающийся автор с женою.
— Ваша фамилия — Шекспир? — спросил его режиссер (была у режиссера такая шутка-невеличка).
— Н-нет… — рдея, отвечал довольный автор. — А вы, случайно, не Мейерхольд будете?
Автору нравилось толочься в этом коридоре, чувствовать себя своим человеком среди загримированных актеров, музыкантов, реквизиторов. Нравились профессиональные разговоры, когда можно походя произнести замечательные слова: «фурка», «выгородка» или «текстуха». И еще автору, начинающему драматургу, очень хотелось увидеть рецензию на пьесу. В коридоре висел специальный щит, куда наклеивали вырезки из газет. Актеры подбегали к этому щиту (он назывался «Доска смеха»), искали свою фамилию в последних абзацах. «Видал, Митя, — говорили они, — тебе удалось ярко воплотить! А ты, Зинуля, опять не нашла выразительных красок!» И автор тоже бочком пробирался к щиту, останавливался как бы нечаянно и коротко, быстро, жадно проглядывал вырезки. Но рецензии все не было…
Сейчас автор столкнулся с Лерой и обрадовался, затормошился:
— Вы сегодня — первым номером! Прямо удивительно! Задали такой верный тон спектаклю, что…
За спиной автора возникла молодая жена. Скользнула настороженным взглядом, усмехнулась, поправила на авторе дыбом вставший крахмальный воротничок.
— Прямо удивительно! — сказал автор другим голосом. — Со сцены текст звучит совершенно иначе!..
Жена автора чем-то напоминала гладкую, чистенькую собачку; все в ней было нервным, быстрым, гончим каким-то, и напряженные глаза ловили, схватывали окружающее. И на миг Лера ощутила себя этой маленькой женщиной, вероятно — умной, тонкой, отзывчивой, но уже давно привыкшей бояться за мужа, привыкшей спасать мужа от бесчисленных профессиональных соблазнов. Лера поняла, ощутила тревожный мир этой женщины — он был похож на полуночную мглу, несущуюся за окном поезда, на пряди летящего дыма, прозрачно-седые на черном — и чувство неуютности, как холодный сквозняк, вдруг охватило Леру.
«А может, она бьет его?» — подумала Лера и засмеялась, представив эту сцену.
— Читаешь глазами, — сказал автор, — текст один. А на сцене совсем другой! Удивительное дело — театр!..
— Привыкнете! — пообещала ему Лера.
В общем-то автор говорил правду, — со сцены текст звучал иначе. Лера свою маленькую роль переписала от начала и до конца. Наверное, неделю старалась, не меньше… Автор не догадывается об этом. Ну, ничего, потом догадается, а потом и привыкнет, что за него дописывают роли. Научится ладить с администраторами, научится организовывать рецензии для «Доски смеха», научится заискивать перед премьершами.
А может, все-таки не научится? Еще нестарый, но уже с брюшком, с залысинками, с носом в красных жилочках, выглядел он простецки, и глаза теплились удивленно, обрадованно, будто он только что проснулся и подарок получил. Нет, далеко ему еще до профессионального драматурга…
VI
Костюмерша поймала-таки Леру на лестнице.
— Душенька, что же это такое, я вас по всему театру разыскиваю! Снимайте платье! Я бы уже все успела — и в талии выпустить, и подол удлинить… Снимайте!
— Ой, а может, я так доиграю? Не надо?
— Душенька, мне попадет, не вам. Режиссер уже заявил, что из вашего платья голые факты торчат.
Вздыхая, сняла Лера несчастное платье, заперлась в грим-уборной. Теперь сиди битый час, не вылезая… Свое домашнее платье не наденешь, жалко пачкать в морилке и гриме. Тем более неохота мыться под душем, а затем снова гримироваться…
«Товарищи актеры, второе действие! — забубнила по трансляции Розочка Балашова. — Товарищи актеры, занятые в третьей картине, прошу на сцену!..» И опять возник переливающийся гул зрительного зала, кашель хлопанье кресел; в оркестре пиликнула флейта, пробуя свое нежное деревянное горлышко…