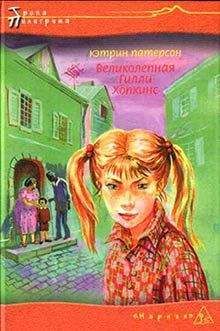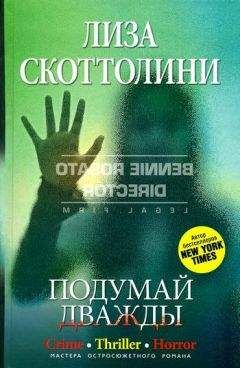«Если ты хочешь сказать этим „никогда“, Троттер, так и говори. Неужели так оно и будет? Неужели я никогда больше не увижу всех вас? Неужели ты позволишь им схватить меня и уволочь? Не бросай меня, Троттер. Оставь мне хоть каплю надежды! Ну да ладно, придумаю что-нибудь».
— Я напишу тебе, Уильям Эрнест. И почтальон принесет письмо. Оно будет адресовано тебе.
— Мне? — переспросил он.
— Только тебе. — Она воинственно посмотрела на Троттер, но та сделала вид, что занята — передвинула на столе миску с салатом и поставила на ее место блюдо с мясом.
После ужина Гилли принялась за уроки, хотя знала, что делать это бесполезно: мисс Харрис никогда не увидит аккуратно выведенных цифр — доказательство, что Гилли Хопкинс хорошо усвоила метрическую систему. Покончив с домашним заданием, Гилли собралась было позвонить Агнес, но что она скажет ей — «до свиданья»? Да она никогда толком не сказала ей «здравствуй». Бедная Агнес. Что из нее получится, в конце концов? Провалится ли она от злости в тартарары, или чей-нибудь волшебный поцелуй превратит ее в принцессу? Увы, Агнес, к сожалению, в мире так мало тех, кто захочет поцеловать лягушку.
Нет, не станет она звонить. Может, когда-нибудь напишет Агнес письмо.
Уильям Эрнест проводил мистера Рэндолфа домой и возвратился с «Оксфордской антологией английской поэзии» — прощальный подарок Гилли от мистера Рэндолфа.
— Гилли, детка, да ты понимаешь, что это за подарок?
— Можно догадаться.
— Будто оторвал от сердца и отдал тебе.
Гилли провела пальцем по коричневой сморщенной коже книжного переплета — кожа была почти такая же, как у самого мистера Рэндолфа, но сравнение показалось ей слишком грубым, и она промолчала.
Гилли дождалась, когда Троттер, отдуваясь, поднялась по лестнице вместе с Уильямом Эрнестом — мальчику пора было укладываться, — открыла антологию и стала искать знакомое стихотворение:
Рожденье наше — только лишь забвенье.
Душа, что нам дана на срок земной,
До своего на свете пробужденья
Живет в обители иной…
Но не в бессильной немоте,
Не в первозданной наготе,
А в ореоле славы мы идем…
От мест святых, где был наш дом.
Стихи по-прежнему были совершенно непонятны. Если рожденье — это забвенье, то что ж тогда смерть? Но не в том дело. Ей нравилось само звучание слов, волшебство сменяющихся звуков:
…Но не в бессильной немоте,
Не в первозданной наготе…
Кто мог подумать, что эти простые слова могут расплескаться в такое море света? И ее любимое «И в ореоле славы мы идем…». Возникало ли это чудо из-за звучания слов или из-за неясной картины, которая, как комета, промелькнула в ее воображении?
«От мест святых, где был наш дом». Картина расплывалась. Может, этот дом и есть святое место?..
Ночью она проснулась и попыталась вспомнить сон, который ее разбудил. Сон был печальный, иначе почему же сердце, — точно комок плохо размятого картофеля? Ей приснилась Кортни. Кортни приехала за ней, но когда увидела ее, отвернулась и сказала грустно: «Никогда, никогда, никогда». Но это был голос Троттер. Гилли уткнулась в подушку и тихонько заплакала, почему и о ком — не знала. Может, из-за всей этой свистопляски, с которой она так старалась совладать, но не сумела.
А потом появилась Троттер, села на кровати и наклонилась к Гилли, пружины под ее тяжестью затрещали, распущенные волосы ее спутались с волосами Гилли.
— У тебя все в порядке, детка?
Гилли повернулась к этой громадине, пахнущей молоком и детской присыпкой. В темноте она не могла различить лица Троттер.
— Ага, — всхлипнула она. — В порядке.
Троттер подняла край своей пижамной кофты и осторожно вытерла глаза и нос Гилли.
— Я не имею права показывать свои чувства, детка, — сказала она. — Я тебе не родная мать, но, видит Бог, девочка, я так хочу, чтобы тебе хорошо жилось с твоими родными. И все равно… — тут ее зычный голос сорвался, — я просто не переживу, что ты уезжаешь от нас. — Громадное тело содрогнулось от громких рыданий.
Гилли поднялась и, как могла, обхватила громадину Троттер.
— Никуда я от тебя не уеду, — пробормотала она сквозь слезы, — ничего у них не выйдет. Они не могут увезти меня силком. — Троттер мгновенно затихла.
— Нет, детка. Ты должна ехать. Прости, что я ничем не могу помочь тебе.
— Я буду часто приезжать к вам.
Троттер засунула свою большую теплую руку под пижаму Гилли и стала гладить ее по спине, как Уильяма Эрнеста.
— Нет, малышка. Так не получится. Я уж говорила тебе сегодня в ужин. Доставила кого шлюпка на пароход, значит, уж там ему и быть. На двух палубах сразу жить нельзя.
— Я могла бы…
Большая рука, ласково скользившая вверх и вниз по ее спине, остановилась, и Троттер тихо сказала:
— Ты уж, детка, не делай нам всем еще больней.
Может, Гилли и не должна была успокаиваться, но она поддалась власти ласкового ритмичного движения большой руки, под которой хотелось свернуться в комочек, стать крохотным слепым котенком и забыть про весь этот вонючий мир.
Здесь, в тишине, в тепле большой ласковой руки, что снимала всю эту боль, можно было и забыть. И ею наконец овладела дремота. Она легла.
Троттер подвернула одеяло, бережно подоткнула простыню вокруг ее подбородка и ласково погладила.
— Я горжусь тобой, детка, слышишь?
— Ага, — шепнула Гилли и погрузилась в сон.
Дорога до поселка Джексон в штате Вирджиния на большом старомодном автомобиле миссис Хопкинс заняла немногим больше часа. Но Гилли казалось, будто они ехали сто лет. Раньше каждый переезд на новое место она считала короткой остановкой по дороге, теперь — это был конец пути. До этого она готова была вытерпеть что угодно, ведь она верила: скоро приедет Кортни и заберет ее домой. Теперь пришлось примириться с тем, что Кортни не приедет. Она прислала вместо себя другого человека. Может, Кортни никогда не приедет. Может, она и не хочет приезжать.
Тяжесть придавила Гилли. Почему она должна сидеть в этой старой машине, с этой странной женщиной, которой она ни капельки не нужна, которая взяла ее только из нелепого чувства долга — ведь она могла бы остаться дома с Троттер, Уильямом Эрнестом и мистером Рэндолфом, которым она была по-настоящему нужна, которые, она не смела признаться в этом даже самой себе, любили ее.
И она их любила. Черт побери. Всю жизнь, по крайней мере, с тех пор, как Диксоны уехали во Флориду и бросили ее, она не хотела привязываться ни к кому — кроме Кортни. Она поняла — глупо привязываться к чему-то, что может исчезнуть в любую минуту. Но в Томпсон-Парке она потеряла голову. Она полюбила этих дурацких людей.
— Хочешь, я включу радио?
— Не беспокойтесь.
— Я в современной музыке не разбираюсь, но если это не очень громко, я не против.
«Да отцепись же ты от меня, наконец!»
Некоторое время они ехали молча, потом женщина снова попыталась заговорить с ней.
— Мисс Эллис, кажется, хороший человек.
Гилли пожала плечами:
— Вроде ничего.
— Она думает, я несправедливо отношусь к дому, в который она отдала тебя.
Что-то мрачное и горячее забурлило у Гилли внутри.
— На прошлой неделе они все болели, — сказала она.
— Понимаю.
«Откуда, черт возьми, тебе понять?»
— Мисс Эллис уверяла, что несмотря ни на что, тебе нравилось в этом доме. Но судя по твоему письму…
«Опять это проклятое письмо!»
— Я часто вру, — натянуто сказала Гилли.
— А! — женщина быстро взглянула на нее и снова отвернулась к ветровому стеклу. Она была такая маленькая, казалось, чуть выше баранки руля. Гилли увидела, как маленькие руки вцепились в него.
— А я надеялась, ты так обрадуешься, что я забираю тебя. Жаль…
«Если тебе жаль, разверни эту старую рухлядь и отвези меня обратно».
Но женщина, конечно, этого не сделала.
Дом стоял на окраине поселка. Был он немного больше, чуть старее и заметно чище дома Троттер. Никаких лошадей для Уильяма Эрнеста. Честно говоря, она на это и не надеялась.
— Может, ты хочешь жить в комнате Кортни?
— Все равно. — Но, подойдя к открытой двери, Гилли отшатнулась. В комнате все вокруг было розовым. На кровати под балдахином расставлено множество кукол и игрушечных зверей. Она не могла заставить себя переступить порог этой комнаты.
— Не смущайся, дорогая, дом у нас просторный. Можешь выбирать.
Больше всего ей понравилась комната с койкой под коричневым вельветовым покрывалом, с моделями самолетов, свисавшими с потолка на тонкой проволоке. В металлической корзинке для мусора валялись перчатки для баскетбола и бейсбола; в бейсбольной перчатке был зажат грязный искореженный мяч. Не дожидаясь вопроса, бабушка тихо сказала, что это комната Чедвелла, старшего брата Кортни, летчика, погибшего в дымящихся джунглях Вьетнама. Но, несмотря на это, в комнате Чедвелла было меньше привидений, чем в комнате его сестры.