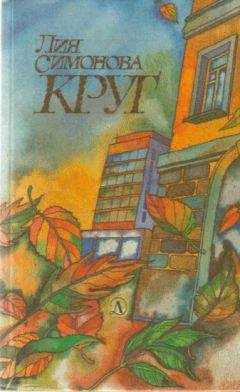«В рассказе «Третий сын», — пишет Холодова, — Платонов рассказывает нам, как по-разному переживают смерть матери шесть ее сыновей. Мы должны понимать, что писатель в своем творчестве отстаивает чувство единой жизни всех поколений. И если для нас не существуют те, кого уже нет, то нарушается связь времен. Никого нельзя считать «пылью», все люди находятся под влиянием силы взаимного тяготения, и именно это делает их всемогущим и неуничтожимым человечеством…»
«Поняла ли до конца Холодова, — подумала Ирина Николаевна, — что литературовед, объясняя художественно-философскую систему Платонова, показывает, как меняется и развивается она, следуя за жизнью, в середине и конце тридцатых годов? И то хорошо, что ученица не высказывает своего отношения к тридцатым годам! Кто знает, понравилось бы это новой директрисе, если бы она надумала прочитать сочинения?»
Она подчеркнула красным карандашом языковую оплошность: «в рассказе… рассказывается» — и, как всегда, поставила Холодовой «5» за содержание и «5» за грамотность.
Но по душе ей пришлись сочинения, в которых осуждались черствость и неблагодарность сыновей умершей старухи и восхвалялся третий сын, пытавшийся возвратить к печальному событию расшумевшихся братьев. Таких сочинений было большинство. Все ли одинаково думали? Во всяком случае, научились понимать, что следует писать, а что не следует, и выдерживали правила игры. Ирина Николаевна ценила тактичность.
Последним она прочитала сочинение Маши Кожаевой. Эта новая в классе девочка выводила ее из себя излишней свободой в общении и высказываниях.
«Мне рассказ Платонова не понравился, — искренне признавалась Кожаева. — Что Платонов хотел сказать? Что третий сын всех чувствительнее? Братья давно не видели друг друга, и они ведут себя как живые люди — обмениваются новостями, воспоминаниями. Гораздо хуже было бы, если бы они притворялись и лицемерили, изображая скорбь. Какое право имеет третий сын стыдить и поучать их? Что, он лучше всех знает, как правильно жить, и может указывать? Пусть каждый живет как хочет! Нельзя лишать личность свободы!»
Читая рассуждения Кожаевой, Ирина Николаевна все более раздражалась. Ишь! Защитница свободы личности! Все судят так, а она эдак! И какая черствость! Какой эгоизм! Ни капли душевности, сострадания!
«Твои рассуждения говорят о душевной глухоте», — сделала заключение Ирина Николаевна в конце листка с сочинением. И со злым усердием выправила все грамматические и пунктуационные ошибки. Возможно, она не осознавала, что в ней бунтует униженная смирением молодость. Тем более не догадывались об этом ее ученики, взрослеющие в иное время.
Сочинения, как и всегда, бурно обсуждались в классе. Когда очередь дошла до Кожаевой, Ирина Николаевна с подчеркнутым неодобрением прочитала вслух Машину работу и обнародовала свое заключение. Реакция оказалась непредвиденной. Кожаева вспыхнула, поднялась:
— Вы не смеете.
— Что я не смею? Оценить твое сочинение? — Ирина Николаевна не привыкла к дерзостям на ее уроках.
— Не смеете оскорблять! — твердо сказала Кожаева. — Я написала то, что думаю. Вам угодно, чтобы все думали одинаково? — Ее глубоко посаженные глаза стали наполняться слезами, а губы подергивались. — Хотите начинить наши головы одинаковыми продуктами и законсервировать до надобности? А я не хочу быть вашей консервной банкой!
— Ты… ты… да ты… просто мелкая душонка! — Ирину Николаевну трясло от возмущения и неприязни. Ребята никогда не видели ее такою. — Ты не хочешь, чтоб мы тебя начиняли, тебе нравится заморская начинка?! Это там, в чужих краях, ты растеряла душевность?! Тебе ничего не стоит ниспровергнуть писателя! Поставить под сомнение замечание учителя! — Ирина Николаевна безобразно кричала, и все притихли, не понимая, что вырвалась наружу долгие годы зревшая обида, растоптанное, никогда не осуществившееся желание встать и сказать однажды: «Вы не смеете!», что так легко далось теперь Кожаевой! Но разве Кожаевой было легко?
Машино лицо полыхало, руки дрожали. Но покоряться она не желала.
— Писатель — человек, и я, и вы тоже, надеюсь, — сказала Кожаева отрешенно, дождавшись конца грозного учительского монолога. — Все люди имеют право судить о делах и поступках друг друга. Я перестану уважать себя и вас, если вы не извинитесь за свою оскорбительную истерику.
— Я… я должна извиниться? Перед тобою?! — Ирина Николаевна негодовала. — Вот что. Или ты, Кожаева, остаешься в классе, или я. Ясно?
Маша не двинулась с места. Медленно, тяжело села. И голова ее, будто сделалась чугунной, стукнулась о скрещенные на парте руки. Ирина Николаевна пристально посмотрела на Кожаеву, на класс, схватила со стола журнал и ушла, хлопнув дверью.
Кожаева заплакала. Всхлипывая, она повторяла: «Что я сделала? Ну, что я сделала? Я написала, что думаю. Учат говорить правду, а потом за правду же попадает!..» Упоминание о «правде, за которую попадает», сразу вызвало симпатии к Маше. Они любили и выделяли среди учителей Ирину Николаевну, но когда она стала называть Кожаеву «мелкой душонкой» и вспоминать «заморскую начинку», все почувствовали растерянность, словно рушился последний бастион.
В жизни все взаимосвязано. Эта мысль, такая простая и древняя, почему-то не часто приходит к людям в повседневности. Сочинение, которое могло бы порадовать Ирину Николаевну, Маша Кожаева разорвала. А это, что так неожиданно спровоцировало скандал, написала после бессонной ночи, перед самым уходом в школу.
Родители Кожаевой оставались работать за границей, и Маша жила с братом. Всю жизнь отец был для Маши примером. То, что он утверждал, превращалось в правило. Его спокойное, доброжелательное отношение к людям становилось ее манерой поведения. Размышления отца о жизни, о светлых идеалах, о красоте мира с годами становились Машиным миропониманием. Отец был большим и сильным, Маша в шутку звала его «мой Портосик».
Брат нисколько не напоминал отца, он пошел в мамину родню. Невысокий, худенький, даже тщедушный, он выглядел слабым и беззащитным, но душою оказался сильным и неуязвимым. Пока они жили в Париже, брат оставался дома, учился в университете, потом служил в армии. Теперь он работал океанологом, с охотой занимаясь своими исследованиями, и утверждал, что за океаном — будущее.
О жизни, о людях, тем более об идеалах он никогда не говорил. После работы он отдыхал, читал, слушал музыку, ходил, как он объяснял, «культурно развлекаться». Но больше всего ему нравилось собирать друзей дома. Добрые отношения с друзьями он ценил превыше всего.
Его друзья, образованные и доброжелательные молодые люди и девушки, смотрели брату в глаза, с восторгом ловили каждое его слово и называли «совестью эпохи».
Машу поражало, что совсем взрослые люди с детским азартом играют в «детективы». Игра заключалась в том, что кого-нибудь выставляли за дверь, пока остальные придумывали сюжет и действующих лиц некоего преступления. Вернувшись из коридора, «сыщик» расследовал «преступление» и находил «преступника». Брат говорил: «Каждый по-своему убегает от трудностей бытия. Мне не по душе заниматься «бегом за инфарктом». И твои сенсы меня не увлекают».
Маша привыкла рассказывать отцу школьные новости, делиться с ним впечатлениями и сомнениями. Брат деликатно выслушивал ее, но в ситуацию, как отец, не вникал. Как-то он сказал ей: «Надо все воспринимать не страдая». В другой раз: «Единственным пороком осталось предательство. В ответ на все остальные обиды следует всего лишь пожимать плечами и отходить в сторону — в этом мудрость».
В Париже, в школе при посольстве, училось не так уж много ребят, и все хорошо знали друг друга. Однажды их класс не подготовился к контрольной по математике, и почти всем поставили плохие оценки. Учитель сказал: «Разрешу переписать, если согласятся все». Одна девочка, у которой, кроме пятерок, не было других отметок, заупрямилась. И у большинства в четверти получились тройки. Ту девочку, отличницу, вся школа осудила. Отец сказал: «Нужно уметь личные интересы подчинять интересам коллектива».
Брат, напротив, уверял Машу, что никого ни в чем нельзя принуждать. Все имеют право на собственную позицию. Тем более что никто и не знает точно, что верно, а что скверно. Поклонение авторитетам парализует человека. Надо переносить людей такими, какие они есть. Переделать людей, а тем более мир — невозможно, и незачем мучиться его несовершенством.
Маша терялась, мучилась, ей не хватало отца. Брат судил обо всем по-другому, но тоже убедительно.
Когда Маша поняла, что ребята переманивают ее из компании в компанию из-за записей, да еще используют посредником в своих не очень-то красивых отношениях, она плакала, просила брата перевести ее в другую школу. Брат смеялся: