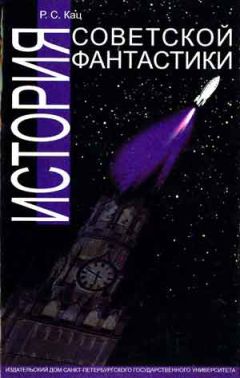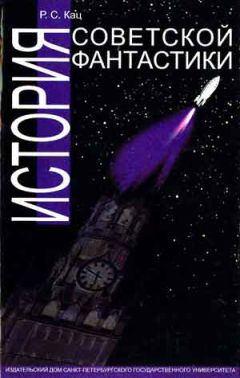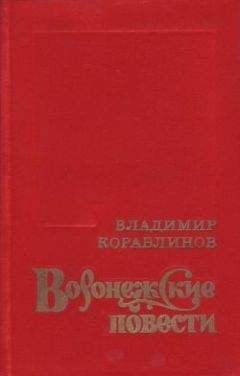Выйдя в тайгу рано утром, Уланка шел, как говорят охотники, следом за солнцем. Вскоре солнце обогнало его. Оно стало садиться, и тени на снегу слились. Охотник вошел в узкий распадок между двумя отвесными сопками и заметил следы сохатого. Дальше он увидел, что лось проваливался по брюхо в сугроб и, выбираясь из него, обломал несколько кустов шиповника; еще дальше — он чесал спину о ствол лиственницы, дерево при этом качалось и с веток осыпалась хвоя.
Солнце село еще ниже. На горизонте вспыхнули багровые полосы. Уланка заторопился. Ветер был попутный, и лыжи, обтянутые гладким мехом, быстро скользили по насту.
По рельефу местности охотник определил, куда примерно мог уйти сохатый. Впереди возвышались сопки, покрытые мелколесьем, а справа от них была узкая длинная падь, занесенная снегом. Уланка устремился туда. Вскоре он увидел лося. Сохатый, проваливаясь по брюхо в снег, уходил.
Уланка вскинул ружье, хотел выстрелить. Получилась осечка. Тогда Уланка решил загнать лося. Больше часа гнался он за ним, пока зверь, совершенно обессиленный, задыхаясь, упал. Подходя к нему, Уланка заметил, что огромные рога на голове оленя держатся слабо, — очевидно, он уже приготовился сбросить их. А две верхние ветви на левом роге были обломаны.
Иван Афанасьевич сразу догадался, что перед ним лежал тот самый лось, которого он осенью отпустил на волю…
— Вот видишь, как наш брат ороч на охоту ходит, — заключил свой рассказ Уланка. — Одного лося летом кушали, второго — на зиму оставил. Помнишь, я тебе говорил, тайга охотнику родной дом. А в доме хозяин есть. Он всегда знает, когда что брать. Понял или не понял? — И коротко рассмеялся.
Вот какие сильные, смелые люди живут в далекой Уське-Орочской, на берегах Тумнина.
Проходили годы.
Однажды, склонившись с оморочки над горной протокой, чтобы попить по-охотничьи воды с весла, учитель неожиданно обнаружил на висках седину. Стало грустно. Он положил на колени весло, доверив оморочку небыстрому течению, и впервые за много лет весь день провел в глухой тайге. Давно уже хотелось ему остаться наедине со своими мыслями, но всегда что-нибудь отвлекало, мешало сосредоточиться. Ведь, помимо школы, у Николая Павловича хватало других забот.
Ни одно мало-мальски серьезное дело не решалось без участия Сидорова, хотя теперь в Уське были и сельсовет, и партийная и комсомольская группы, и правление колхоза. Так уж повелось с тех давних лет, когда учитель был здесь единственным советчиком и все, что он говорил и делал, убеждало орочей в его правоте. Николай Павлович очень дорожил этим доверием, близко к сердцу принимал все нужды маленького народа, радовался, видя, как люди постепенно начинают жить по-новому.
Он уже давно не отделял своей судьбы от судьбы орочей, и ни разу за все это время у него не возникало мысли, что он может покинуть таежную Уську.
В одном из писем во Владивосток к старушке матери Сидоров писал: он потому чувствует себя счастливым, что принес за эти годы хоть немного счастья другим.
«Ты ведь, дорогая мама, всю свою жизнь трудилась над шитьем, чтобы дать сыну образование. Помнишь, ты не расставалась с мечтою дожить до радостных дней, когда я стану учителем. А учитель должен оставаться с народом».
Эти слова, что «учитель должен оставаться с народом», Сидоров как бы поставил эпиграфом ко всей своей жизни. Мысленно перебирая ее год за годом, он все больше убеждался, что именно из лесной школы орочи, как из чистого, живого родника, черпали и знания, и культуру, и вообще все то новое, что со временем пришло в их дома. И то, что в этом благородном деле есть частица труда его, Сидорова, наполняло сердце учителя радостью.
Потом Николай Павлович вернулся к своей давней мечте — устроить при школе хотя бы крохотный этнографический музей. Ведь пройдет десяток лет, и от прошлой жизни орочей не останется и следа — вот и нужно собрать в одно место и сохранить для будущих поколений старые орочские одежды, предметы домашнего обихода, разные коврики с национальным орнаментом, а если удастся раздобыть, то и костюм шамана. Когда-нибудь сами орочи с удивлением все это будут рассматривать в музее и с трудом верить, что так бедна и примитивна была в прошлом их жизнь в кочевых стойбищах.
Когда учитель недавно заговорил о музее, ребята так обрадовались, что обещали собрать как можно больше экспонатов. А Феня Хутунка, внучка Никифора, даже взялась уговорить дедушку, чтобы он подарил музею все свои шаманьи предметы: юбочку, отороченную мехом, бубны, высушенные лисьи лапки, костяные и железные побрякушки…
— Он теперь совсем редко шаманит, — сказала Феня.
Поглощенный мыслями о музее, Николай Павлович не заметил, как оморочку вынесло в небольшой распадок, где на холмистом берегу протоки стояла хуми — могила тигра: квадратный зеленый холм под высоким свайным амбарчиком.
«Вот и хуми соорудим в нашем музее», — подумал учитель и, достав из кармана блокнот, нарисовал на листке могилу тигра.
До самого вечера бродил Николай Павлович в тайге, вспоминая годы, прожитые в Уське-Орочской, мысленно заглядывая в будущее, и хотя все трудности как будто остались позади, у него почему-то не было полной уверенности, что он всегда действовал правильно. Вероятно, Где-то у него были ошибки. И, может быть, поэтому кое-кто так неохотно, так мучительно расстается со старыми привычками: боится перешагнуть решающую черту.
Ну, взять хотя бы историю с тигром…
* * *
Шаман Никифор был на редкость упрямым. Можно было подумать, что он не согласен с новой жизнью потому, что лишился богатства. Но у Хутунки никакого богатства не водилось. Это был бедный человек, всю жизнь проживший в дымном берестяном шалаше. Да и шаманил он в последние годы от случая к случаю, и все больше для стариков и старух. Почти не выходил из дому, сидел весь день на вытертой оленьей шкуре, курил.
Две внучки Никифора — Феня и Маша — учились в лесной школе, жили в интернате. Частенько они забегали домой, хватали из шкафа то пирожок с черемуховым вареньем, то леденец и спешили на улицу.
Старшая — Феня — была бойкой на язык, носила красный галстук, с пионерским значком и всегда находилась в компании мальчишек.
Однажды Феня стала упрекать деда:
— Сидишь тут, на улицу не выходишь. Все старики в клуб ходят, кино смотрят, а ты, дедушка, прилип к оленьей шкуре и трубкой коптишь. Из-за тебя Ким Пунадинка недавно обозвал меня «шаманья внучка».
Никифор погрозил Фене, но промолчал. А когда внучка ушла, он заявил дочери:
— Матрена, гляди, какие дети пошли. Скоро стариков совсем гнать будут! Уйду, однако, от вас…
— Куда же ты, старый, уйдешь?
— В Копи уйду, к брату Анисиму!
— Зачем уходить? Никто не гонит тебя. Ты бедный человек, почему не хочешь жить по-новому? Старая Акунка тоже шаманить умела, да бросила. На ликбез ходит, новую жизнь полюбила. Ты погляди вокруг! Внучки твои вырастут, большими людьми станут, а ты просидишь тут темный, злой…
Он и дочери погрозил.
Через несколько дней Феня опять забежала домой. Увидев у нее в руках книжку с картинками, Никифор спросил:
— Что говорит она?
— Это сказка про Ивана-дурака, дедушка! Старик вроде не понял.
— Хочешь, почитаю?
— Садись, читай.
Феня села на пол напротив деда и стала громко читать.
— Все понял? — спросила она, закрыв книжку.
— Какой конь, как птица, летать может?
— Так это же сивка-бурка, дедушка. Это не простой конь.
Старик не поверил. Взял у внучки книгу и долго рассматривал картинки.
— А еще чему учат вас?
— Арифметике, русскому языку, грамматике, зоологии, ботанике, истории, — затараторила Феня так, что старик зажмурил глаза.
— Не кричи, а то в голове шум.
Феня схватила с плиты пшеничную лепешку, обмакнула ее в мед.
— Дедушка, — сказала она с полным ртом, — знаешь что? У нас в школе скоро будет музей. — И объяснила, что такое музей. — Ты подари нам в музей свой бубен, кости, халат. Правда, дедушка, подари! Николай Павлович сказал, что в музее нужно и шамана поставить.
Никифора словно обухом ударило. Он вздрогнул, побледнел, испуганно посмотрел на дочь.
— Матрена-а-а! Слышишь, Матрена-а-а! Отца твоего в музей ставить хотят!
— Опять не понял, — возмутилась Феня. — Шамана мы из глины вылепим. Нам одеть не во что чучело…
— Глупости говоришь, — перебила Матрена. — Разве можно из родного дедушки чучело делать! Он уже давно шаманить бросил. Никому зла не делал. Люди прежде ходили к нему, просили помочь, он и помогал.
Феня всплеснула руками.
— Я и говорю, раз шаманить бросил, пусть подарит нам все, в чем прежде шаманил. А чучело мы из глины-ы-ы вылепим. Из глины-ы-ы, понятно?
Мать, кажется, теперь поняла.
— Ладно тебе, беги в интернат.