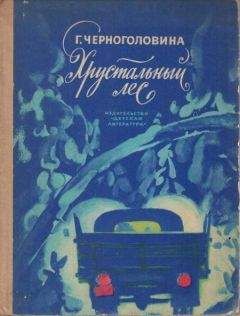— Хочешь покататься? — спросил Ескиндер-ага.
Смирная верблюдица посмотрела на Илюшку умными глазами с длинными чёрными ресницами и по приказу Ескиндера-аги покорно опустилась на колени.
Когда Илюшка уселся, она бережно поднялась.
— Быстрей фотоаппарат! — заволновалась Раиса Фёдоровна. — Пошлю тёте карточки, вот там все ахнут!
Болату смирные верблюды были не по душе.
— На тайлаке бы прокатиться! — мечтал он.
— Тайлаки — это верблюды-двухлетки, — пояснила Тоне Айгуль. — Их сначала укрощают, а потом ездят.
Укрощать тайлаков Болату никто не разрешил, но на прощание Ескиндер-ага подарил ему очень длинный, крепкий аркан, сплетённый из конского волоса. Болат теперь практиковался всякую свободную минуту: забрасывал петли на камни, на кусты. Однажды попробовал заарканить чью-то лошадь, она испугалась и понеслась. Болат не выпустил аркан и метров сто проехал по камням на животе. Хорошо, что подоспел на выручку дядя Нурлан и остановил лошадь. Болату влетело, у него чуть не отобрали аркан, но он обещал, что больше не будет связываться с лошадьми.
Жалко было уезжать с джайляу, но что поделаешь — всё кончается. Дядя Нурлан с вечера распорядился, чтобы ребята собрали инструменты и костюмы, чтобы все вещи были в машинах.
— Утром двинемся, — сказал он.
А утром Илюшка проснулся раньше всех и, ещё не открывая глаз, услышал, что идёт дождь. Осторожно перебираясь через спящих в юрте, он прошёл к выходу, где стояла его обувь. Всё набрякло водой: земля, трава, шерсть овец, сбившихся в кучу за юртой; кажется, даже холмы разбухли и стали больше.
Хозяйка возилась с печуркой. Она прикрыла трубу от дождя листом жести, перегнув его наподобие крышки, но дым всё равно не хотел идти.
Дорога назад была трудной. Машины то и дело буксовали, но дождю все были рады — только бы у них, в «Целинном», он шёл!
Приехали домой на закате. Машины задержались возле конторы, ребятам не терпелось домой, и они побежали, шлёпая босыми ногами по лужам.
Дождь кончался, только редкие крупные капли ещё срывались с неба. Тучи полыхали красным заревом, а внизу, словно сами себя подчёркивая, тянулись широкой чёрной полосой, и под этой полосой чистое небо наливалось спокойным, нежным, лимонно-розовым цветом.
Бабушка Ксеня домывала ступени крыльца и пела. Илюшка и Тоня бросились к ней.
— Вернулись, подсолнушки! — обрадовалась она. — А я уж соскучилась. И как я совсем без вас жила…
Они вытерли ноги о тряпку и вошли в дом. Пол был ещё влажным, в промытые окна лился закатный свет.
— Как пошёл дождик, — говорила бабушка Ксеня, — так и мне всё мыть, всё чистить захотелось. А то ни к чему душа не лежала. Ну, теперь будем ждать колоса.
«Скоро — колос, скоро — колос…» — утвердительно тикали часы «Софронычи».
Была степь ровная, была степь гладкая, и вдруг посреди неё горы выросли. Горы хлебные, чудо-горы.
Совхозный ток — широкий, асфальтированный, как городская площадь, нарядный, как в большой праздник. Синее небо, красные флаги, весёлые фонтаны. Фонтаны не простые — золотые. Бьют фонтаны из зернопультов, намывают высокие горы, чистые горы, хлебные горы. А всякая примесь вредная, всякий сор прочь летит.
Тоня скинула босоножки и — раз! — подскочила под самый светлый, самый золотой фонтан, — оказалось, овсяный. Тотчас отпрыгнула, зафыркала, замотала головой: набились в волосы мелкие, как песчинки, семена мышея, зёрна овса в уши насыпались.
— Тоня, не вытряхивай овёс из ушей! — смеялась Айгуль. — Пусть растёт. Будут у тебя овсяные серёжки!
— «Серёжки! Серёжки!» А где мои босоножки?
Сбежали у Тони босоножки, нет нигде. Как же так? Хорошо, что Болат глазастый, увидел — из овса ремешок торчит. Вытянул одну босоножку, покопался немного — вторую достал.
Хохочут ребята, покатываются:
— Вот так серёжки! Засыпали босоножки!
— Вы сюда работать или баловаться? — строго спросила Раиса Фёдоровна.
Как только на полях загудели комбайны, она повязала голову белой косынкой и пришла на ток. «Я ведь в деревне росла, — говорила она женщинам. — Разве могу усидеть дома, когда люди урожай убирают?»
Ребята взялись за лопаты и стали подравнивать зерно в буртах.
Всё на току было огромное, мощное. Весы так весы, не какие-нибудь чашечки с гирьками: весы-площадка, на которой умещается целый грузовик.
Въезжает на ток грузовик, взвешивается — и к железной башне. На башне флаг развевается, внутри неё вой, грохот, свист. Пятится, пятится поближе к башне грузовик и вдруг встаёт на дыбы, как рассерженный медведь. Куда-то под землю утекает из кузова зерно.
Ну-ка, если бы все машины, что идут с поля, поразгружать вручную — никаких рук не хватило бы. А здесь само зерно сыплется в бетонную яму, потом идёт по трубам в башню, а башня сама веет, сама сортирует зерно.
Только один дядя Нурлан ею командует: сидит в стеклянной кабине, как в космолёте, нажимает кнопки, и перед ним зажигаются то зелёные, то красные огни.
Илюшка и бабушка Ксеня стояли на краю поля. Тяжёлые, золотые с коричневым волны ходили по нему, выплёскивались к Илюшкиным ногам.
Он присел: вот она, плотина, которую он строил на обочине дороги из камешков и палочек, чтобы оградить молодые растения от зловещих чёрных языков. Какие они беззащитные тогда были, эти ростки! А сейчас сильные, упругие стебли поднимались плотной стеной, и на каждом был пшеничный колос.
«И сорок раз по сорок зёрен собрал…» — прозвучали в ушах Илюшки слова из сказки.
Подошёл и остановился громадина комбайн. Иван Терентьевич Рыбчик сошёл с мостика, поздоровался.
— Ну что, Ксения Сергеевна, начнём убирать нашу «целинницу»?
— Сейчас, — сказала бабушка Ксеня и стала срезать колосья, передавая их Илюшке.
Когда у него образовалась целая охапка, бабушка Ксеня перевила жгутом несколько стеблей и связала колосья. Получился сноп.
— Бывало, вяжешь, вяжешь эти снопы, — вспоминала она, — в глазах круги пойдут. А дед Софрон командует: «Живее! Живее!» Как давно это было, будто и не я тогда жила, а кто-то другой.
Кого напоминает комбайн? Слона или кузнечика? Илюшка никак не мог решить. Огромный, как слон, и так же, как слон, может пустить из хобота сильную струю. Но не вода, не песок, а тяжёлое зерно струится из хобота комбайна в кузов подошедшего грузовика.
А потом комбайн вновь идёт по полю и тогда больше становится похожим на кузнечика: такой же нескладный с виду, а сзади, где соломокопнитель, быстро-быстро, коленками назад, движутся две «кузнечиковы ножки». Иван Терентьевич объяснил Илюшке, что эти ножки уплотняют солому, прессуют в копну, а потом копна сама вываливается. Все убранные поля были усеяны копнами, как тёрка пупырышками. На бункере комбайна у Ивана Терентьевича было пять звёзд. Это значило, что Иван Терентьевич успел намолотить много хлеба.
Бабушка Ксеня поехала на другие поля, а Илюшку оставила с Иваном Терентьевичем. Он стоял на мостике, под парусиновым тентом. Для полноты счастья ему не хватало Мишки, но Мишку после истории с земляникой отправили в город к родственникам. «Может, отвыкнет от этих Лоховых», — надеялась тётя Даша.
Иван Терентьевич достал запасные очки и заставил Илюшку надеть их: «А то засоришь глаза».
Ревёт, качается комбайн, снуют «кузнечиковы ножки», прессуя солому. Налетел ветер, густая пыль поднялась кругом.
У Илюшки першит в горле, хрустит на зубах. Не так уж весело стоять на мостике комбайна. И Иван Терентьевич с ним не разговаривает, не шутит — некогда ему.
Гудит комбайн — опять полон бункер, опять подъезжает грузовик, и тяжёлая золотая струя рушится в кузов.
Бригадная повариха привезла обед, расстелила скатерть прямо на стерне. Илюшка степенно подражал Ивану Терентьевичу, хлебал красный горячий борщ, хрустел огурцом.
От комбайна несло жаром, как от раскалённой печки-«буржуйки». Казалось, он с нетерпением ждал, когда люди снова вернутся на мостик. Он, железный, не знал усталости.
К возвращению бабушки Ксени они скосили уже больше половины поля.
— Ну, как на комбайне? — спросила бабушка Ксеня, когда разомлевший Илюшка слез с мостика.
— Ничего, — сказал он. — Только жарко очень.
— Ладно, поехали. Садись в машину.
Илюшка взглянул на своё опустевшее поле, на жёсткую щётку стерни, и ему стало грустно: «Ну вот и всё…»
Стемнело. На небе вспыхивали звёзды, и на земле тоже. Горели, мерцали фары комбайнов, полыхали зарницы на несчётных степных дорогах, зарево огней стояло над совхозными точками.
Выплыла на небо полная луна, видимо, она очень торопилась: боялась, что людям темно будет работать. А тут увидела столько огней и растерялась, замерла на месте, будто даже побледнела сначала, а потом стала подниматься выше и вновь зазолотилась, как свежая лепёшка.