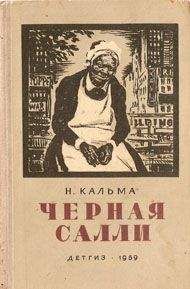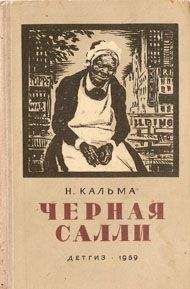Они подошли к небольшому коттеджу с низким крыльцом и балконом. На пронзительный звонок поварихи дверь открыл сам директор школы. Это был сухой, высокий человек с квадратным лицом и бегающими ржавыми глазами. Во рту у него постоянно торчала сигара, и, даже разговаривая, он продолжал сосать ее.
Увидев посетительницу в такой поздний час, директор не удивился: очевидно, она была частым гостем в его доме.
— Вот, сэр, тот самый мальчишка, — задыхающимся голосом проговорила повариха, втаскивая Чарли в кабинет. — Опять повадился ходить с Мэри. Подумаешь, какой черный кавалер!…
И она неприятно захихикала.
— Имя? — не выпуская изо рта сигары, спросил директор.
— Чарльз Аткинс, — пробормотал едва слышно Чарли.
— Громче, не слышу.
Чарли повторил.
— Он сын этой негритянки Аткинс, которая служит в вашей школе, сэр, — вмешалась повариха. — Помните, сэр, я вам говорила еще о ее муже…
Директор махнул ей рукой, чтобы она замолчала.
Потом он поманил пальцем Чарли:
— Поди сюда, Аткинс. Ты, Аткинс, кажется, умный мальчик, хорошо учишься, не так ли? — Директор заговорил неожиданно ласковым тоном, он даже взял Чарли за подбородок.
— Спросите его лучше, сэр, что за истории рассказывает его бабушка, — снова вмешалась повариха. — Представьте себе, сэр, она внушает детям, что негры сделаны из того же теста, что и белые. Чепуха, вредная чепуха, сэр! Это все равно, что убедить меня, будто черные лепешки делаются из той же муки, что и белые.
— Подождите минутку, миссис Роч, прошу вас, — сказал директор.
Он подошел к поварихе и что-то тихо сказал ей на ухо. Чарли послышалось, будто директор произнес: «Так мы из него ничего не вытянем», но мальчик решил, что это ему показалось.
— У тебя много друзей, Аткинс? — спросил директор, обратив на Чарли свои ржавые глаза.
— Да, сэр. Все наши мальчики и девочки — мои друзья, — скромно отвечал Чарли.
— Верно, и у мамы твоей много друзей? — продолжал директор. — Ведь она как будто каждый вечер бывает в гостях?
— Нет, что вы, совсем не в гостях, — ответил Чарли, — мама ходит на митинги, а сейчас она ходит к рабочим, которые бастуют…
— Вот как! К рабочим, которые бастуют? — Директор нервно приподнялся на своем кресле. — И что же она там делает?
— Она помогает их семьям, читает им разные книги. Мама ведь очень много знает, — охотно рассказывал Чарли.
Директор казался очень заинтересованным. Ом попросил Чарли подробно рассказать, какие же книги читает его мать рабочим. Но Чарли и сам этого хорошенько не знал.
— Только одну книжку я знаю. Такая красная, небольшая, — сказал он, — ее подарил мой папа, когда был еще на свободе. Мама очень ее бережет. На ней написано Ленин.
Директор поперхнулся.
— Она и теперь переписывается с папой? — спросил он быстро.
Чарли поглядел в ржавые колючие глаза директора, и вдруг его взяло сомнение.
— Не знаю, — сказал он отрывисто.
— Врешь, знаешь! — Директор схватил его за ворот; внезапно от его ласковости не осталось и следа. — Сейчас же отвечай, маленький змееныш!
— Не знаю, не знаю… — твердил Чарли, стараясь вырваться.
Повариха не выдержала.
— Вот, я говорила, я говорила вам, сэр, что это за семейка! — крикливо начала она. — У них там целое гнездо бунтовщиков…
Директор толкнул Чарли к двери: — Иди, лгунишка этакий, убирайся! Он переглянулся с поварихой Роч, и они оба вдруг чему-то улыбнулись.
— И того, что мы узнали, вполне достаточно, чтобы… — сказал директор и захлопнул за Чарли дверь.
Мальчик очутился на улице. Какое-то беспокойство мучило его. Что хотел сказать директор своей последней фразой? Что такого сказал ему Чарли и чему так радовались директор с поварихой?
Чарли шел, перебирая в памяти весь разговор, и все больше и больше беспокоился. Вернувшись домой, он решил никому — ни бабушке, ни матери — не говорить о том, что был у директора.
— Слыхали вы когда-нибудь эту песню? — спросила бабушка. — Она поется на красивыq боевой мотив. И она запела низким, звучным голосом:
Спит Джон Браун в могиле сырой,
Но память о нем ведет нас в бой…
Все хорошо знали эту песню: ее часто пели обитатели Ямайки, особенно цветные. Но после рассказа бабушки песня казалась совсем новой, полной глубокого значения. И ребята с увлечением начали подпевать старой негритянке:
Но память о нем ведет нас в бой…
В этот вечер Мэри не пришла слушать бабушку, и Чарли напрасно глядел в конец улицы, надеясь увидеть бронзовые косы.
— У нее хватило храбрости только на один раз, — сказал Беппо, — сегодня она струсила и осталась дома.
Чарли хотелось возразить, но он промолчал, иначе ему пришлось бы рассказать также и о директоре.
— Песню о Джоне Брауне пели во время войны северяне, — продолжала бабушка, — и, когда мы ее услыхали в первый раз, нам показалось, что отец и капитан снова идут в бой за свободу.
… Ох, какая жестокая была эта война, дети! Маленький город Вильмингтон в те дни совсем сошел с ума. По улицам беспрестанно проходили полки, ехали военные повозки, медные трубы ревели походные марши. Барабанный бой, стоны раненых, которых везли в госпиталь, лошадиный топот — все это смешалось в какую-то адскую музыку.
Пока длилась война, южане относились к неграм еще хуже, чем обыкновенно, поэтому мы старались почти не выходить из своего квартала, чтобы не попасться на глаза военным.
Однажды среди полка южан мелькнула перед нами грузная фигура Паркера, сидевшего на лошади. На Паркере были офицерские погоны. Он громко орал на солдат, и лицо его наливалось кровью от раздражения.
Когда Вильмингтон перешел в руки северян, мы начали наводить справки, не видел ли кто-нибудь из солдат глухого негра, по имени Наполеон. Долго мы не могли ничего узнать, но однажды старый капрал сказал нам, что он встречал такого негра под Ричмондом. Глухой дрался, как одержимый, застрелил полковника-южанина и взял в плен нескольких офицеров.
— Я слыхал потом, что его уложила шальная пуля, — добавил капрал, — наши ребята очень жалели его.
Вот и еще один друг погиб! С грустью вспоминали мы Наполеона, его заботы о нас, Кеннеди-Фарм…
О матушке Браун мы знали только, что она работает в походном госпитале северян и не боится подбирать раненых даже во время боя.
Война продолжалась четыре года. Были убиты и искалечены тысячи людей. В конце концов победил Север.
Северу нужны были дешевые рабочие для его фабрик и заводов, поэтому после окончания войны негры получили свободу. Разумеется, «свобода» эта была только на бумаге. Говорили, что каждый освобожденный негр получит сорок акров земли и мула. Но негры не получили ни мулов ни земли. Им грозил голод, и они шли за гроши служить к своим прежним владельцам.
Мама Джен нанялась кухаркой в пансион, где учились дочки богатых фермеров.
— Барышни, научите мою Салли читать и писать, — попросила она пансионерок.
Белые барышни захохотали:
— Ха-ха-ха! Учить негритянку? Даром время тратить!
Мама очень обиделась и назвала их бессердечными девчонками. Сама она не умела ни читать, ни писать. В Америке было запрещено учить грамоте негров. И только после объявления свободы начали открываться первые школы для черных детей.
Тогда мама записала и меня в негритянскую школу. Ах, как я радовалась, когда мама надела на меня новенькое клетчатое платье с зеленым поясом и дала с собой мешочек с завтраком! В мешочке лежали вареные бобы и круглая маисовая лепешка.
Но в школе сидели малыши. Увидев меня, большую, одиннадцатилетнюю девочку, они принялись кричать:
— Гляди, гляди, цапля пришла! Фонарный столб шагает!
Дома я долго плакала:
— Не пойду, не пойду я в школу… Они смеются надо мной. Я слишком большая!
Но мама уговорила меня.
— Помнишь Паркера? — сказала она мне. — Чтобы бороться с Паркерами, нам нужно много учиться.
Я не могла равнодушно слышать имя Паркера. И я обещала маме хорошо учиться.
Спустя некоторое время мама, которой было тяжело служить в пансионе, решила ехать на Север, в Нью-Йорк. Ей казалось, что там неграм живется легче.
Мы распростились с добрым стариком Гапкиным и в один солнечный осенний день погрузились все трое на пароход. Я говорю «трое» потому, что с нами был наш неизменный Прист. Мы не могли расстаться с ним.
Пароход поплыл по Делаверскому заливу, а потом вышел в Атлантический океан и направился к Гудсону.
Мне не нравилось, что мы едем на тесной и грязной нижней палубе. Снизу я видела, как наверху, за начищенными медными перилами, гуляют белые дети. Иногда дети смотрели на нас и чему-то смеялись, а я в ответ корчила им гримасы.