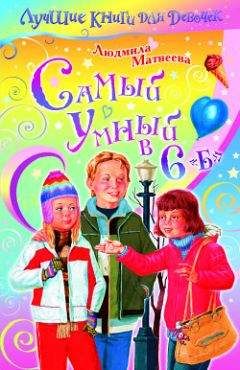Тогда, давно, до войны, Любе казалось, что она не может жить без Лёвы Соловьёва. Все могут, Валя может, а она не может. Так почему же он выбрал Валю! Это несправедливо! И не Лёва виноват в этой несправедливости. Виновата Валя.
Теперь Лёва с бабушкой в эвакуации. Валя выходит во двор, и по-прежнему она всегда заметна. Не играет со всеми — заметно: все играют, а Валя — нет. Начнёт играть — всё равно заметно: это играют все, а это — Валя. С этим ничего нельзя поделать. Коварство и хитрость разоблачить трудно, но все-таки можно. Нельзя разоблачить красоту…
Вот Валя стоит возле стены — мягкие косы, длинные ресницы, сияние в глазах. Все играют в снежки, а Валя стоит и не играет. Ногой в маленьком чёрном валенке разрывает, раскидывает снег возле стены. Она красиво и задумчиво воротит его. Люба готова спорить на что угодно, что никакой задумчивости нет — о чём ей думать-то? Но вид лирический, немного печальный. И печаль ей к лицу.
Валина нога кажется особенно ладной в аккуратном валеночке. Вдруг Валя наклоняется и поднимает с земли липок бумаги, свёрнутый квадратиком. Он лежал, припорошённый снегом. Люба в ту же секунду поняла, что это записка. Та самая. Она упала из ящика ночью, её отнесло ветром сюда, к забору.
Люба кинулась к Вале:
— Это моё! Дай!
А Валя легко и красиво отвела руку:
— Откуда ты знаешь, что это тебе? Это записка.
И Валя развернула и читает вслух, а все стоят и слушают.
— «Ты самая лучшая девочка на всей земле».
Прочла своим красивым звонким голосом и смеётся:
— А ты, Любка, говоришь, что тебе. Я же сразу сказала, что не тебе эта записка.
— А я говорю — моя! — кричит Люба и тянется за запиской. Ей в этот момент кажется, что если записка окажется в её руках, то все как бы встанет на свои места: Славка написал ей такие прекрасные слова, ей, Любе. Ей всего двенадцать лет, а Вале — четырнадцать. Ну и что? Разве нельзя, чтобы в твои двенадцать лет хоть кто-нибудь считал тебя лучшей девочкой на всей земле?
— Люба, — певучим голосом, нарочно певучим, чтобы было насмешливо, уговаривает Валя, — ну почему ты решила, что это написано тебе? Да и кто тебе мог это написать? — Она специально делает нажим на слово «тебе». — Тебе, такой маленькой, некрасивой, тощей, в пальто до пупа, в растоптанных, сто раз подшитых валенках. Ты не доросла еще до таких слов.
— Моя, я знаю! Я, честное слово, знаю, — твердит Люба, но никак не дотянется до записки. А все смотрят, а Коляня смеется. И Люба сама слышит, как неубедительно звучат ее слова. Слова вдруг потеряли окраску: серые, вялые, плоские. Нет душевных сил вдохнуть в них жизнь.
Люба оборачивается к Славке. Только он может сказать два слова, и все поверят, и перестанут смеяться. Она молча, глазами просит:
«Славка! Скажи им!»
Славка опускает глаза и молчит. Славка молчит! Люба смотрит на него, даже подалась к нему, а он молчит. Он наклонился, слепил крепкий, совершенно круглый снежок и со всего размаха залепил его в стену рядом с Валей.
Валя отстранилась, хотя прекрасно знает, что никто не кинет в неё, в Валю, таким крепким, как лёд, снежком. В кого-нибудь другого кинут, тому, другому, ничего не сделается — потрёт ушибленное место, поморщится — и всё. Но в Валю — нет.
Она, смеясь, сделала вид, что испугалась, сказала:
— Ну прямо снаряд… Слава, а может быть, это ты написал?
Она держит записку двумя пальцами, отстранив от себя, с таким выражением лица, как будто записка грязная или мокрая. Потом наступил такой момент, когда Люба могла бы выхватить записку, но это уже не имело никакого смысла. После Славкиного молчания — не имело.
С последней надеждой — на Славку, прямо в глаза: «Славка! Ну что же ты?»
— Да ладно вам! — вдруг зло говорит Славка. — Играем мы или нет?
И снова слепил снежок, и снопа влепил в стену, осталась на стене снежная пришлёпка.
— Играем! — орёт дурным голосом Коляня.
Какое дело Коляне до всех этих глупостей записки, не записки. Что он, девчонка, что ли?
И с гиканьем понёсся по длинному двору. И Перс, и Славка. Славка, как всегда, быстрее всех.
А Любка уходит домой. И слышит, как за её спиной хохочет Валя.
И Перс, так и не разобравшись, что к чему, кричит:
— Давайте лучше в салочки! Чур, не я!
Люба дома плачет, диванная подушка промокла почти насквозь. Мама пришла, увидела заплаканную Любу и побледнела. Спросила белыми губами:
— Что? Что?
Люба мгновенно поняла, какая ужасная мысль ей пришла, приблизилась к маме. Поняла и заторопилась, чтобы поскорее прогнать эту мысль, и саму тень её, и саму возможность такой мысли и такой чудовищной догадки.
— Ничего не случилось, мама. Совсем ничего. Просто один мальчик залепил мне снежком в спину. И не больно, мам, ну нисколько не больно. Просто обидно. — И Люба всхлипнула.
— Когда же ты вырастешь? — Мама села на стул прямо в пальто и вдруг тоже заплакала. Так они плакали в тот вечер, каждая о своём.
Не бойтесь, Галина Ивановна!
В этот мартовский вечер Галина Ивановна поздно возвращалась из школы: был педагогический совет.
Галина Ивановна шла по бульвару с красивым, немного сказочным названием Звёздный. Навстречу шли люди — просто гуляющие и гуляющие с собаками. Собаки были самые разные — очень большие и очень маленькие, гладкие и кудрявые. Была даже одна собака в клетчатом комбинезоне со специальной дырочкой для хвоста.
В стороне высокая гора, и там кричат ребята. В предвесеннем воздухе особенно звонко звучат голоса:
— Эй, лыжник! Отойди, пропусти на санках!..
— Боишься? Не бойся! Не бойся!..
— Леночка! Леночка! Осторожно! Упадёшь!.. Так и есть! Упала! Что же ты смеёшься? Отряхнись!..
— С дороги, куриные ноги!..
Крик радости, полного счастья, напористый крик — он рвется из ребят вечером на горке. Для прохожих эта горка — место, которое надо поскорее обойти, чтобы не стукнули по ногам или по хозяйственной сумке разогнавшиеся санки; чтобы не ткнули ненароком в бок лыжной палкой; чтобы не заломило в голове от шума и мелькания несущихся вниз и вверх мальчишек и девочек.
Для ребят горка — место радости, смелости, риска. Кто ты такой? Трусишь? Жмёшься в сторонке? Несешься сломя голову? Уступаешь всем дорогу? Или тебе все уступают? Разные характеры, разные люди.
— С дороги, куриные ноги!..
Скоро весна. Совсем особенно пахнет воздух. Наверное, это один из последних вечеров на горке. Скоро она потемнеет, снег станет некрасивым, грязным — и растает. И все эти мальчишки и девчонки будут проходить мимо, не глядя в сторону горки.
Галина Ивановна садится на скамейку. Ей некуда спешить: дома её никто не ждёт, Галина Ивановна живёт одна. Она сидит, с удовольствием вдыхает чистый воздух. Воздух холодный, а пахнет весной.
Рядом садится старушка, она держит на поводке белую кудрявую болонку.
— Бэби хочет побегать? — наклоняется старушка к болонке. — Бэби не будет выходить на проезжую часть? Не будет подходить к бульдогу? Не будет убегать далеко?
Старушка отцепляет поводок, Бэби радостно несётся по дорожке.
— Отдыхаете? — спрашивает старушка Галину Ивановну. — Сейчас все такие переутомлённые.
— Да, вот сижу.
— А вам шум не мешает?
— Какой шум? Ах, этот? Нет, я не реагирую. Привыкла.
— На заводе, наверное, работаете? В шумном цехе?
— В горячем цехе, — отвечает Галина Ивановна.
— Что вы говорите! Вредное производство? Вы такая хорошенькая…
— Ну что вы, — смущается Галина Ивановна. — Я люблю свою работу. Конечно, у меня не всё получается.
— Простите… Я не вижу Бэби. Бэби! — Старушка зовёт, волнуется, а Бэби ввязался в драку с двумя большими собаками.
Старушка убегает разнимать, а Галина Ивановна остается одна. Ей хочется в этот синий вечер посидеть, подумать.
Директор Вячеслав Александрович на педсовете, как всегда, говорил о каждом классе. И Галина Ивановна волновалась, ожидая, когда он начнёт говорить об её пятом «Б». Перед Вячеславом Александровичем Галина Ивановна всегда робеет, как ученица перед учителем. И сама себя за это ругает. Она напоминает себе, что она взрослый человек, педагог. Она окончила педагогический институт с отличием. И работала в ПТУ. Она справлялась с работой, добросовестно относилась к своим обязанностям так написано и характеристике. Почему же, когда она встречает директора Вячеслава Александровича, она смущается, как будто в чём-то виновата?
На педсовете Галина Ивановна села у самой двери, подальше от стола Вячеслава Александровича. И тут же сама себе сказала: «Могла бы сесть поближе, нечего бояться».
Шёл педсовет. Завуч Роза Семёновна читала сводку успеваемости. Высказывались учителя. О хороших учениках говорили немного, с ними и так, без разговоров, было всё в порядке. Говорили о слабых учениках много и подробно. О том, что им надо подтянуться, что с плохими оценками пора кончать, что многие учащиеся учатся ниже своих возможностей.