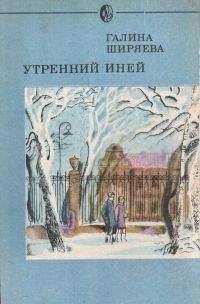Наташа перевела взгляд с дождливого темнеющего оконного стекла на пылающие в печке поленья и оцепенела…
Там, в огне, среди раскаленных языков пламени по-страшному наливались огненно-кровавой краской буквы: «Аля».
* * *
Наташа рванулась к огню, но жар полыхнул ей в лицо и опалил руки.
— Бабушка! — вскрикнула она отчаянно.
Перепуганная бабушка Дуся тут же появилась на пороге комнаты с вязаньем в руках, клубок тянулся за ней, разматываясь по дороге… Но за эти несколько мгновений Алино имя в огне слилось с пламенем, охватившим только что подброшенные Наташей в печку поленья.
— Что? Что ты? Я уж подумала — горим. Иль сожгла чего лишнее?
И так как Наташа по-прежнему оцепенело молчала перед, распахнутой дверцей печки, полыхающей жаром, она взяла кочергу, поворошила в печке, словно надеялась отыскать там что-то, и, ничего не отыскав, вопросительно посмотрела на Наташу.
— Испугалась, — прошептала Наташа. — Уголек выскочил.
— А вот не сиди перед печкой! Не сиди! Не смотри на огонь. Выжгет когда-нибудь глаза-то!
Бабушка Дуся сердито захлопнула тяжелую чугунную дверцу, отгородив Наташу от огня, и слабые его отблески, пробившись сквозь кружевные отверстия по краю дверцы, тут же забегали по стенам неосвещенной комнаты, сделав все вокруг таинственным и тревожным. Но бабушка Дуся тут же перенесла свое вязанье поближе к Наташе и включила свет, вслух удивившись тому, что вот, оказывается, дрова-то и новые, и не просохли вроде бы еще за месяц, а горят-то как хорошо.
— Хорошо, — тихо подтвердила Наташа. — Березовые…
Тогда весной, на кладбище, когда красили ограду и Наташе всюду хотелось писать Алино имя, она пометила ту березу с чудной травой, написав на ее стволе краской: «Аля». Это краска так занялась в огне. Хорошая масляная краска…
Почти все совхозные дома отапливались газовыми печами. Наташа это знала, как знала и то, что живой лес здесь на дрова не рубили. На те несколько дровяных печей, что оставались еще в совхозе и на Дайке, хватало погибших деревьев.
Не лес убил ту странную траву, а трава, вросшая корнями в тело березы, перехватив у нее самый первый, самый свежий и сильный сок могучей земли, убила ее…
Она молча, притихшая, просидела перед закрытой дверцей печки, пока все дрова в ней не прогорели. А когда бабушка Дуся, собрав остывающий жар в горку, закрыла трубу, встала и сказала, что пойдет погулять.
— На ночь глядя? Да ты в уме? — пыталась удержать ее бабушка Дуся.
Но Наташа ушла все-таки от тепла, принесенного в дом погибшей березой…
На улице было уже почти темно. Однако фонари там, на главной улице совхоза, где была ишутинская контора, еще не зажглись. Лишь отцовский завод вдалеке светился огнями, и у Наташи стало легче на душе оттого, что вот нет ни единой звезды в небе, ни одного закатного или хотя бы лунного луча, а завод этот, родной, отцовский завод, светит и освещает огромное далекое небо.
Дождь уже кончился, но по-прежнему было холодно, и воздух насквозь пропитался сыростью. Наташа прошла метров сто по размокшей тропинке, пролегшей через поле к опушке леса, и остановилась.
Лес был совсем близко. Он еще не начал шелестеть по-ночному. Может быть, набухшим, от дождя веткам и листьям трудно было шевелиться и шелестеть? А может быть, он просто уснул, как спит уставший за день человек? Может быть, могучий его шелест — это тоже тяжелая работа? Такая же, как плеск стремящихся вперед речных волн, как стук сильных колес проходящего по рельсам поезда, как лязг железа в мастерских. Чего-то не поняла Наташа в его могучей лесной жизни…
Она почти с жалостью вспомнила ту заброшенную поляну с полуосенними цветами. Может быть, именно на этой поляне собирала она когда-то землянику. А потом стала ее недругом… И лес попытался простить Наташу за ее недоброту к нему именно в тот тяжелый для нее час встречи с Алей на лесной дороге, показав себя по-светлому добрым. И никогда, ни разу в жизни не увидела она лунной травы, что расцветает в лесу лишь при луне, потому что таится, стесняется — от скромности. А сама-то, оказывается, добрая. Сама-то, оказывается, от родимчика помогает… А Наташа, не поверив в нее, радовалась другой, недоброй траве, что крикливо, на виду, расцвела раньше всех и убила березу…
За ее спиной, у конторы, вспыхнули фонари на столбах, и она оглянулась на свой совхоз, на свой дом, так необыкновенно умеющий притягивать к своему порогу самое далекое, на бугры с боярышником, уже еле различимые в вечерней темноте, на небо, освещенное отцовским заводом, на лежащее у ее ног картофельное поле…
Все это было ее, Наташино. Все это жило там, в утреннем солнце, навсегда осветившем Наташин барбарис волшебным праздничным светом. И родной бабушкин голос, и отцовские руки, так легко управляющие раскаленной огненной рекой, и материнские вековые реперы на великой равнине, и железная кронштадтская мостовая — все это жило там, в том утреннем солнце. И Аля…
И, вспомнив про Алю, Наташа вновь подумала о погибшей березе… Кто виноват в том, что она погибла? Только ли трава, что выпила из нее самый первый, самый свежий сок могучей земли?
Чего-то не поняла Наташа в могучей лесной жизни, чего-то не разглядела. И, радуясь той странной чужой траве, что расцвела раньше других цветов и деревьев, не она ли, не Наташа ли, виновата в том, что погибла та береза?
И не в зеленый ли цвет выкрашена дверь омелинской дачи, куда вошла Аля?..
А Наташа не знала об этом, не догадалась!
«Почему именно я? — попробовала она возразить неизвестно кому, как тогда, у ограды Алиного палисадника, и позже, на лесной дороге, пытаясь и на этот раз отогнать от себя беспокойное чувство вины. — Почему именно я должна?..»
Лес по-прежнему не шелестел, не шевелился. Он притих, словно замер… Это был ее, Наташин, лес, в который она приходила когда-то собирать землянику, в котором она дышала и бегала босиком, без страха, пока не встретила там зло и, поверив, что это — лесное зло, не задумались над тем, что зло это могло быть злом и для Наташиного леса… И вот она не ходила туда, не полола травы. А лес терпеливо стерег и охранял могучую Наташину равнину, что раскинулась за ним и хранила в себе вековые реперы.
А может, они потому и зовутся вековыми, что есть на свете какие-то вековые, вечные высоты!
Если даже это всего лишь крутой остров на реке с осыпающимися песчаными склонами…
Она тихо пошла обратно к дому, прислушиваясь, не подаст ли голос, не зашевелится ли лес. Но лес проводил ее молчанием до самого крыльца. Словно именно теперь, именно в эту минуту, он боялся напугать ее своим голосом.
* * *
В ярко освещенной кухне за столом сидела Райка.
Райка поедала чечевичную кашу.
Когда Наташа вошла, она с опаской подняла на нее глаза и прикрыла миску с кашей руками, словно боялась, что Наташа у нее эту кашу отнимет.
В Райкиных оттопыренных ушах были новенькие сережки с лиловыми камешками, а на левой щеке виднелось розовато-синее пятно — след от Наташиной оплеухи. Наташе стало жаль Райку, но в этот момент она прочитала на ее лице ту самую торжественность, которая появлялась на Райкиной физиономии каждый раз, когда она привозила какие-нибудь необыкновенные новости от князьевской бабы Груни. Эти новости ни бабушку Дусю, ни Наташу обычно никогда не радовали. К тому же она увидела, кроме всего прочего, что бабушка Дуся аккуратно расправляет висящую у печки на веревке выстиранную лапшовую кофту. Значит, бабушка Дуся Райкину кофту стирала, не доверила Райка такое важное дело ни самой себе, ни бабе Груне… А сама живет здесь по-прежнему «по дороге» и вот сидит теперь за столом и поедает чечевичную кашу, сваренную бабушкой Дусей!
— Не рассосалась еще Князьевка-то? — спросила Наташа.
— Забота не твоя!
— А сапожки в починку еще не отнесла?
— А забота тоже не твоя!
— А фор-брам-стеньга тебя еще не прихлопнула?
— Сама ступай к рыбам! — сказала Райка, облизав ложку. — Баба Дунь! Чего она лезет?
— Не лезь, — сказала бабушка Дуся.
— А я тоже каши хочу! — крикнула Наташа. Им вредно было собираться всем вместе! И вредность эта шла от Райки. А бабушка Дуся этого не понимала — она и Райке добавила каши.
— Ну и что нового в Князьевке-то? — давясь невкусной кашей, спросила Наташа. — Что там? Распродала баба Груня… наследство Алькино или еще нет?
Райка быстро глянула на бабушку Дусю и сделала лицо совсем наивным и совсем непонимающим. Бабушка же резко сдвинула на лоб косынку, и Наташа по этому ее движению поняла сразу: прекрасно знает она, где была Райка!
— Так распродала или нет? — снова спросила Наташа жестоко, потому что, может быть, и надо было быть жестокой, пока Райкин фор-брам-рей еще не полетел к черту!
— А что — спросила Райка как ни в чем не бывало. — Ты тоже что-нибудь купить хотела? Так опоздала!