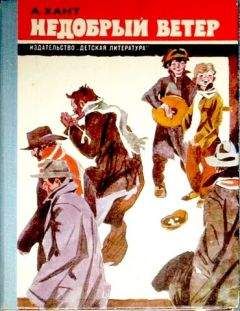— Смотрите, приятели, не забывайте нам писать, — сказал он и посмотрел на меня с легкой усмешкой. — Ты задержись и попрощайся с Дженни, а мы с Джоем войдем в вагон и устроим ваш багаж.
Мы постояли с Дженни рядом несколько минут. Еще не рассвело. Мы говорили, наверное, то же самое, что говорят все влюбленные перед долгой разлукой, когда расстаются на годы, а то и навсегда. Я очень хотел, чтобы она не расплакалась, и она сдержалась.
— Прощай, Дженни, — наконец шепнул я и вскочил в вагон.
Мы с Джоем уселись на свои места, и через несколько минут поезд тронулся. Мы помахали друзьям в окно, а потом долго никто из нас не произнес ни слова.
Через час рассвело, и солнце осветило степь. За окном заиграли краски: свежевспаханная почва, зеленые побеги, леса, ручьи, голубое небо. Мы видели эти места зимой, но теперь не узнавали их. Ни льда, ни снега, ни завывания метели. Только вдруг мы заметили фигурку, устало плетущуюся вдоль полотна: мой ровесник, рассчитывающий на подаяние в ближайшем городке. В другом месте группа людей грелась у костра, кто-то замахал кофейником над головой. На станциях были расклеены плакаты: «Только Рузвельт прав». Один плакат был кем-то изорван в клочья, зато на другом кто-то надписал: «Да поможет ему Господь!»
Иногда мы обгоняли товарные составы, В открытых дверях теплушек стояли люди, другие сидели на крышах, болтая ногами. Среди них могли быть и те, кто ехал вместе с нами на Запад в ту ночь, когда мы покинули Чикаго: бродяга, который подсаживал Джоя в вагон, или тот мужчина, что подарил нам банку с бобами.
На платформе какой-то станции мы увидели мальчишку в белой куртке. Он нес к поезду бутерброды, молоко и кофе.
— Хочешь есть? — спросил я Джоя.
— Просто умираю от голода, сказал он и, спохватившись, посмотрел на меня сконфуженно. — Как глупо вышло, — пробормотал он. — Такими словами не бросаются.
И правда, его слова резали слух. Еще недавно, когда он действительно голодал, ничего подобного я от него не слышал.
Мы поели не торопясь, со вкусом. В вагоне было немного пассажиров, мы сняли ботинки и положили ноги в одних носках на соседний диван. Джой съехал на самый краешек сиденья, чтобы его ноги оказались вровень с моими.
— Ты подрос, Джой, — сказал я ему, — несмотря ни на что!
Он довольно улыбнулся: я редко его хвалил. Прошел кондуктор и шутливо щелкнул Джоя по носу компостером.
— Ездили на каникулы? — спросил он нас.
Мы с Джоем переглянулись.
— Да, пожалуй, так можно сказать, — ответил я.
Но кондуктор не очень-то нами интересовался, просто спросил из вежливости. Кивнув, он прошел дальше. Женщина, сидевшая через несколько рядов от нас, остановила его, и мы слышали, как он ответил:
— Будем в Чикаго примерно через два часа, мадам.
При этих словах я невольно вздрогнул. Родители могли так отвыкнуть от нас, что мы им покажемся чужими. Придется заново узнавать друг друга. Мы будем скучать по Лонни, бабушке и Дженни. С мамой, конечно, будет просто. С ней можно обо всем поговорить, все рассказать: о том, как я работал в балаганах, как играл в ресторане в Омахе. Расскажу ей о Дженни, а может быть, даже и об Эмили. Китти тоже будет интересно. Она настоящий друг, на нее можно положиться. Известить ли мне мать Хови? Как она отнесется к известию о гибели сына? Больше всего я боялся встречи с отцом. Каким он будет теперь, что мы скажем друг другу? И снова мне вспомнилось, как давным-давно он укачивал меня на руках, сидя у камина. Обязательно расскажу ему об этом: пусть знает, что в самые тяжелые минуты я думал о том времени, когда мы с ним ладили…
От волнения я места себе не находил.
— Не знаю, Джой, что нас ждет, ведь в Чикаго по-прежнему плохие времена.
Но Джой был спокоен.
— После всего, что с нами было, мы нигде не пропадем, — сказал он уверенно и откинулся на спинку дивана.
— Ты прав, — я выдавил из себя улыбку.
Не мог же я показать этому птенцу, что мне страшно!
Вскоре вдоль полотна потянулись унылые, ветхие кварталы, которые даже весеннее солнышко не красило. Дома тесно жались друг к другу, заводские трубы напоминали узловатые руки рабочих, грозно поднятые к небу; дым струился не из всех. Поезд замедлил ход, пассажиры засуетились, потянулись за чемоданами и сумками.
— До остановки еще полчаса, — объявил кондуктор, но его никто не стал слушать. Все хотели быть наготове, чтобы не мешкая выбраться из вагона. Только мы с Джоем сидели тихо. Теперь даже мой самонадеянный братец немного струхнул: я видел, как он побледнел. Наконец поезд медленно и величественно въехал под прокопченную крышу. Так обычно ведут себя поезда, прибывающие на конечную станцию. Солнечный свет пробивался на крытые перроны узкими полосками.
— Чикаго! — крикнул кондуктор и напомнил, чтобы мы не забывали своих вещей.
Поезд остановился.
— Как ты думаешь, нас встречают? — тихо спросил Джой, робко глядя на меня.
— Наверное, — ответил я, чувствуя, что меня мутит от страха.
Не спеша мы сошли на перрон. Пассажиры, неся чемоданы, шагали к зданию вокзала. У его дверей стояли встречающие, выглядывая в толпе прибывших родственников или знакомых. Я сразу заметил маму и рядом с ней — Китти. Еще через секунду я увидел отца, всего в нескольких метрах от нас, он впился взглядом в двери соседнего вагона. По старой привычке я сразу разозлился на него: «Конечно же, мама и Китти должны ждать в отдалении, а бог и хозяин всегда впереди». Он еще не заметил нас, и мы успели разглядеть, как он изменился за эту зиму. Раньше он был такой большой и крепкий, а сейчас стал худым, сутулым, щеки ввалились. Страдания оставили неизгладимый след на его лице. И я устыдился своих мыслей. Грех злиться на него, вон он как ждет, чтобы мы с Джоем появились в дверях вагона. «Не придирайся к бедняге, — сказал я себе. — Ты и сам не сахар, разве не так?»
Мы подошли к нему, и я тронул его за рукав:
— Здравствуй, отец, рад тебя снова видеть.
Он вздрогнул от неожиданности, потом узнал нас, и его лицо озарилось. Левой рукой он притянул к себе Джоя, а правой крепко пожал, мне руку.
— Здравствуй, сын, — сказал он, — я тоже рад…
Он быстро наклонил голову и отвернулся также, как я отвернулся от Джоя в ту ночь, когда Лонни отыскал его.
Правила теже — сыновья не должны видеть отцовских слез.