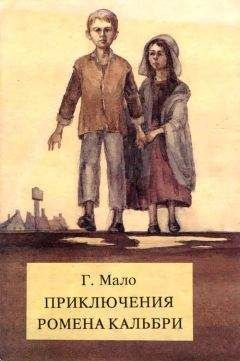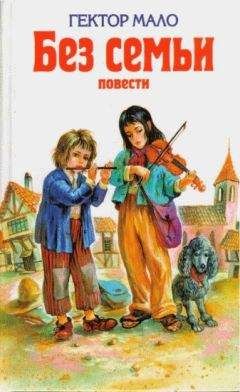Ознакомительная версия.
Благодаря этим свойствам своего характера Лаполад плохо смотрел за животными и плохо их кормил. Некоторые уже передохли, а других он вынужден был продать. В то время, как я поступил в его труппу, зверинец состоял из одного только довольно старого льва, двух гиен, одной змеи и ученой лошади, которая во время странствований днем запрягалась и везла повозку, а вечером участвовала в представлениях. Паяц Кабриоль, гимнасты Филясс и Лабульи, кларнетист Герман и барабанщик Королюс, Диэлетта и я составляли остальную труппу, не считая хозяев. За ужином я познакомился со всеми своими новыми товарищами.
Хотя я был пока только конюх, но и меня допустили к столу компании этих знаменитых своими талантами людей.
Слово «стол» не совсем соответствовало тому предмету, на котором мы ужинали. Это был длинный и широкий деревянный некрашеный ящик. Он занимал середину повозки и выполнял три рода обязанностей: внутри его лежали костюмы для представлений в балагане, наверху ставились тарелки, и тогда он служил обеденным столом, а на ночь на него клали матрас, на котором спала дочь Лаполада, маленькая Диэлетта, или, Дези. Рядом со столом стояли два ящика поменьше и подлиннее, это была скамейка для членов всей труппы, потому что стулья полагалось иметь только хозяевам. Меблированное таким примитивным способом, это первое отделение повозки имело свою хорошую сторону — чистого воздуха в нем было сколько угодно. Стеклянная створчатая дверь открывалась на крылечко, а два маленьких окошечка с занавесками из красного кумача придавали ей вид комнаты.
За ужином меня стали расспрашивать о моем прошлом. Я отвечал коротко и неохотно, благоразумно умалчивая об отце и о матери, а равно и о дяде, даже не назвал ни своей настоящей фамилии, ни откуда я родом. Когда я стал рассказывать о живописце и об его столкновении с жандармом, Дези объявила, что я вел себя глупо и на моем месте она бы только позабавилась всей этой историей. Оба музыканта с ней согласились, в знак чего и загоготали в один голос раскатистым грубым смехом, который составляет отличительную принадлежность баварских немцев.
Дези была девочка лет двенадцати, по виду хрупкая и нежная. У нее были удивительного цвета темно-голубые глаза, и когда она пристально ими смотрела, то становилось почему-то жутко.
Когда ужин окончили, на небе догорала еще вечерняя заря.
— Теперь, дети мои, — заявил Лаполад, — воспользуемся вечерними сумерками, чтобы заняться гимнастикой, надо чтобы мускулы не одеревенели.
Он уселся на крылечке повозки, куда девочка принесла ему трубку.
В это время Лабульи и Филясс притащили на траву небольшой ящик с крышкой. Филясс первый расстегнул блузу, вытянув руки и ноги, и, раскачивая головой, так, как бы он хотел отделить ее от тела, влез в ящик, где и исчез. Я был донельзя изумлен, мне показалось это невозможным.
Теперь очередь была за Лабульи: несмотря на все усилия, он повторить этой штуки не мог. Тогда, не вставая с своего места, хозяин отвесил ему по плечам, со всего размаха, бичем такой удар, что у меня искры из глаз посыпались, хотя я тут был не причем.
— Ты опять наелся, животное, — прибавил он хриплым голосом, — завтра ты посидишь у меня на одном хлебе и на воде.
Потом повернулся ко мне.
— Ну, теперь очередь за тобой.
Я отступил на несколько шагов, чтобы меня нельзя было достать ударом хлыста.
— Что мне делать? — с замиранием сердца спросил я.
— Прыгай через эту яму, можешь?
Яма была глубокая и широкая, но я перепрыгнул ее, и даже хватил на два фута дальше, чем было надо.
Лаполад, видимо, остался доволен моим прыжком и заявил, что я буду хорош для трапеции.
В первой повозке помещались хозяева, во второй звери, а в третьей спали мы все, служащие, и, кроме того, она служила складочным местом для всякого хлама. Так как внутри повозки для меня не оказалось постели, то я взял охапку соломы и лег под повозкой.
Огни погасли, шум затих.
Среди ночной тишины раздавалось только фырканье лошадей, которые тянулись от своих коновязей сорвать пучок пыльной придорожной травы, да из зверинца доносилось могучее дыхание льва. Он время от времени жалобно вздыхал, как будто неподвижная духота ночи напоминала ему родную африканскую пустыню, и он ударял хвостом по бедрам при мысли о прежней свободе.
Я невольно сравнил себя с ним. Он находился в крепкой железной клетке, а я на свободе. Одну минуту мне пришло на мысль убежать от этих гадких людей и продолжать дальше путь в Гавр, но это значило украсть платье у Лаполада, а с этим не мирилась моя детская совесть. Что делать — надо за него поработать. В конце концов, все же здесь не хуже, чем у дяди; эту ночь я заснул с тяжелым сердцем.
Караван наш отправлялся в Фалез на Гюильбрейскую ярмарку. Там я увидел в первый раз, как Дези взошла в клетку льва и как искусно Лаполад лаял по-собачьи.
Из сундуков мы повытаскали запасные костюмы. Девочка поверх своего трико надела платье, вышитое золотом и серебром, а на голову ей надели венок из роз. Мои товарищи, гимнасты Лабульи и Филясс, представляли из себя красных чертенят. Немцев нарядили польскими уланами, на голову им нацепили шляпы, украшенные перьями.
Меня всего выкрасили в черную краску, руки, лицо и грудь, — я должен был изображать негра-невольника, привезенного из Африки вместе со львом, и мне велели на все молчать. На вопросы посетителей я должен был улыбаться, показывая как можно больше зубы.
Мать родная и та не узнала бы меня в таком виде. По-видимому, Лаполад этого, главным образом, и добивался; он, верно, и опасался, чтобы в толпе не случилось кого-нибудь, кто случайно мог бы меня узнать. В продолжение двух часов у нас происходил невообразимый шум и гам. Кабриоль оканчивал свои приготовления к параду, пока Дези повторяла какие-то акробатические па с Лабульи. Сам Лаполад нарядился генералом.
Толпа, собравшаяся поглазеть на представление, обступила нас со всех сторон. Везде мелькали белые нормандские колпаки на мужчинах и высокие чепчики на женщинах. Генерал сделал жест рукой, и музыка прекратилась. Затем он наклонился ко мне и сунул мне в рот зажженную сигару, которую только что начал курить.
— Раскуривай мне ее, пока я буду говорить.
Я смотрел на него с разинутым ртом, не понимая, что мне делать с этой сигарой. Кто-то ударил меня ногой сзади.
— Ну не каналья ли ты, — прошипел Кабриоль, — хозяин дает ему сигару, а он манежится! — при этих словах он дал мне нового пинка.
Я едва устоял на ногах к большому удовольствию невзыскательной публики. Послышался хохот и аплодисменты. Я никогда не курил и даже не соображал хорошенько, надо ли втягивать в себя дым или, наоборот, выдыхать его, но времени для расспросов не было; одной рукой Кабриоль тянул меня за подбородок, а другой поднимал за нос, а в открытый рот Лаполад затискивал сигару.
Должно быть, я делал отчаянные и уморительные гримасы, потому что зрители покатывались со смеху, держась за бока.
Генерал снял свою шляпу с султаном, толпа замолкла и приготовилась слушать, что будет дальше. Водворилось молчание.
— Вы видите перед собою знаменитого Лаполада. Кто же он? Разве этот шарлатан в одежде генерала? Да, это он самый. А почему же, спросите вы, этот столь знаменитый человек оделся в шутовской костюм? Для того именно, чтобы сделать вам удовольствие, государи мои! Сказать правду, все вы, взятые каждый в отдельности, люди препочтенные и считаете меня за шарлатана, между тем сами-то вы, придя в театр, представляете собою толпу любопытных зевак.
В публике послышались ропот и свистки.
Лаполад нисколько этим не смутился, он взял у меня сигару, затянулся несколько раз и затем, к великому моему отчаянию и отвращению, снова сунул мне ее обратно в рот.
— Желал бы я знать, почему вы ворчите, вы, человек в колпаке и с красным носом? Потому именно, что я сказал вам, что дома вы почтенный человек, а на народе разиня, — ну, хорошо, прошу у вас прощения! Может быть, вам лучше придется по вкусу другое, а именно то, что дома вы шут гороховый, а перед публикой только притворщик?
Публика от неожиданности этого оборота начала гоготать, и когда смех утих, Лаполад продолжал.
— Таким образом, если бы я не был переодетым генералом, вместо того, чтобы смотреть на меня во все глаза и с разинутым ртом, вы бы шли себе своей дорогой, не останавливаясь у балаганов. Но я ведь понимаю людей и знаю, на какую удочку их следует ловить. Вот поэтому-то я выписал из Германии вот этих двух немецких музыкантов, которых вы видите перед собой, для этого же самого я пригласил в свою труппу Филясса, ловкость которого известна всему свету, наконец, Лабульи и знаменитого Кабриоля, которого мне хвалить не приходится, потому что вы оценили его сами по достоинству.
Вы останавливаетесь ради любопытства, в вас задет интерес, и говорите: — Посмотрим-ка, что он нам еще покажет? Господа музыканты, сыграйте же веселенькую штучку этой почтенной публике, она это понимает и охотно идет посмотреть на все наши чудеса.
Ознакомительная версия.