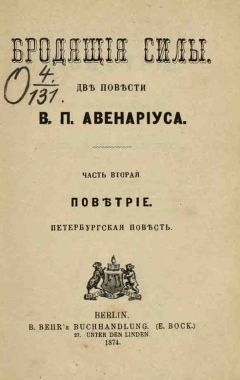— Принимай, братове! — донесся его зычный голос. Несколько паробков, несмотря на палящий жар, приняли с рук на руки преосвященного владыку, лишившегося, как оказалось, чувств. Для Михаилы же выход из церкви был уже загражден: окно стояло в полном огне, и самого Михаилы не стало видно, — откинулся, должно быть, назад, в церковь.
Отец Никандр и прихожане были настолько заняты приведением в чувство епископа Паисия, что на время как будто даже забыли про нашего героя. Один только пан Бучинский, сообразив тотчас, что гибель любимого гайдука царевича в умышленно, очевидно, подожженном храме легко может отозваться неблагоприятно на отношениях царевича к князю Константину, открытому гонителю православия, вонзил шпоры в бока своего коня и обскакал кругом церковь, чтобы удостовериться — нет ли оттуда гайдуку другого выхода. Но церковь, подобно колокольне, пылала уже со всех концов: молодая жизнь, без сомнения, прекратилась там, в полыме, среди ужаснейших мучений… Губы пана Бучинского побелели, болезненно сжались.
Много размышлять о погибшем ему, впрочем, не пришлось. Прискакавший во весь опор верховой возвестил скорое прибытие самого светлейшего; а пять минут спустя пожаловали, действительно, на пожарище как оба брата Вишневецкие, так и царевич Димитрий, а с ними патер Лович и многочисленная придворная свита. О прекращении пожара не могло быть уже и речи; вновь прибывшим оставалось только, сложа руки, наблюдать за окончательным истреблением огнем последнего в воеводстве храма и слушать рапорт маленького княжеского секретаря. Сжато, но чрезвычайно ясно и толково доложил пан Бучинский о поимке подозреваемого «запаляча», о чудесном спасении беглеца-епископа, о гибели гайдука «его царского величества» и о принятых им самим мерах к локализации пожара.
Заметно опечален был, казалось, один только царевич: потеря единственного, быть может, вполне преданного ему душой и телом человека была для него, без сомнения, чувствительна.
— Я надеюсь, князь, — сказал он, — что вы нарядите над поджигателем строгий суд.
— Поджигатель ли он, государь, покажет следствие, — отвечал князь Константин, — но я считаю долгом предварить ваше величество, что, по установленному порядку, должен буду направить все дело о поджоге, по принадлежности, в коронный гродский суд, ведающий уголовные дела…
— Однако, мне сказывали, помнится, — возразил Димитрий, — что здесь, в Малой, как и в Большой Польше, всякие преступления челяди и смердов, даже шляхтичей и духовных лиц, состоящих на службе того или другого пана, может судить сам пан их своим доминиальным судом при участии всего двух-трех соседей, хотя бы вопрос шел о животе и смерти. Так или нет, любезный князь?
— Так-то так, конечно…
— А этот Юшка, которого одного ведь только пока подозревают в поджоге, не простой ли ваш челядинец? Почему же вам самим не учинить над ним суда и расправы? Покойный же гайдук мой, скажу прямо, служил мне хоть и недолго, но стал мне уже так дорог, что убийце его не должно быть пощады.
— Да я же не убивал его, надежа-государь! Помилуй, я ни в чем неповинен! Сам он, дурак, в огонь без спросу полез! — слезно завопил тут стоявший поблизости между двумя стражами своими Юшка и бухнул в ноги царевичу. — Да и не стоит он ничего, государь: он обманщик, и тать, и душегуб!
— Как смеешь ты, подлый смерд, взводить напраслину богомерзкую на слугу моего верного? — вспылил Димитрий, и глаза его гневно засверкали.
— Вот те Христос, не напраслина! Ведь он кем сказался тебе? Полещуком, небось, крестьянским сыном, Михайлой Безродным?
— Да.
— А он такой же, почитай, крестьянский сын, как вон светлейший наш пан воевода: он — князь Михайло Андреич Курбский.
Шепот недоверчивого изумления пробежал по всему присутствовавшему панству.
— Мне самому сдавалось, что он благородного ко-рени отрасль, — сказал царевич.
— Да ведаешь ли ты, надежа-государь, что бежал он из дому родительского в лес дремучий; к татям-разбойникам пристал…
— А ты-то, малый, от кого все это сведал? — перебил доносчика Димитрий. — Не сам ли тоже в разбойниках перебывал? Не от них ли доведался? Ну, чего молчишь? Умел грешить, умей и каяться!
Юшка изменился в лице, оторопел. Но сбить его природную наглость было не так-то просто.
— Не в чем мне каяться, — отрекся он, — от товарища его одного, что летось в оковах в Вильне провозили, все сведал, с места не сойти. Да и душегубцем-то он заправским, слышь, быть не умел, трус естественный: никого-то на веку своем толком не прирезал, не пристрелил. За то и из артели-то разбойничьей в шею вытолкали…
— Не по своей, знать, охоте попал туда, — решил царевич. — А что не трус он — это он сейчас только на деле показал: для ближнего своего голову сложил. Ты же, малый, я вижу, не только что душегубец, но и злой клеветник. Бедный гайдук мой мне теперь еще вдвое милее; а тебе, злодей, головы своей на плечах не сносить!
На защиту Юшки выступил теперь княжеский капеллан, патер Лович.
— Не смею предрешать кары, которой предлежал бы такой тяжкий кримен (преступление) по мирским законам, обратился он к старшему князю Вишневецкому, — будет ли то пренгир (позорный столб) или даже poena colli (смертная казнь); но почитаю своим пастырским долгом быть прелокутором (защитником) инкульпата (обвиняемого) и донести вашей светлости о выраженном им мне искреннем желании из лона схизмы перейти в латынство.
— Хошь завтра, хошь сейчас, батюшка-князь, готово креститься! — подхватил Юшка и униженно пополз на коленях к своему светлейшему господину.
— Это, конечно, несколько меняет дело, — благосклонно сказал тот.
Младший брат Вишневецкий, князь Адам, не позволявший себе вообще, как заметил Димитрий, возражать старшему брату, не утерпел, однако, на сей раз вставить свое слово.
— Чем же постыдное ренегатство может смягчить еще более постыдное преступление? — сказал он.
Брови князя Константина сдвинулись; но присутствие царевича заставило его сдержать себя.
— Что для тебя, брат Адам, ренегатство, то для всякого доброго католика — обращение к единой истинной вере Христовой!
Царевич прекратил препирательство двух братьев.
— Но я все же надеюсь, — сказал он, — что будут выслушаны свидетели, которые могли бы показать что о поджоге?
— Для вас, ваше царское величество, — извольте, только для вас, — отвечал князь Константин, — но, само собою разумеется, интерпелляции (вызову для объяснения) не подлежат женщины, дети и вообще малоумные.
— Нет, князь, я прошу вас открыть двери суда равно для лиц обоего пола, от мала до велика, от первого шляхтича до последнего смерда, кто только пожелает подать голос.
— Но если показание кого не заслуживает доверия…
— Да какой же то суд, любезный князь, что не сможет отличить показание верное от неверного?
Никому до этого времени не было дела до двух православных пастырей. Благодаря стараниям отца Никандра и некоторых услужливых крестьян, преосвященный Паисий, наконец, открыл глаза и пришел в себя. Теперь только, казалось, отец Никандр заметил присутствие ясновельможного панства, и из последних слов Димитрия заключив, что в нем-то они, пастыри, найдут себе наиболее прочную опору, он громко призвал на главу царевича благословение Божие; затем с достоинством, почти с гордостью обратился к князю Константину, не то прося, не то требуя — в прегрешениях вольных и невольных его, отца Никандра, простить и не оставить его совместно с преосвященным владыкой, «что мученическими подвигами себя преукрасил и облаголепил, без суда праведного и нелицеприятного».
— Брат Никандр, смирися! — слабым голосом воззвал к другу своему больной архипастырь, распростертый еще на земле, — что Господь нам судил, то и благо: да будет над нами Его святая воля!
Князь Константин не счел нужным тратить с ними лишних слов. По знаку его, были «убраны» как оба пастыря, так и Юшка. Прошло еще с четверть часа — и храм, и колокольня представляли груду пылающих развалин. Село Диево было пощажено огнем. Выразив своему секретарю за распорядительность его полное одобрение, князь Константин повернул коня, а за ним сделали то же и брат его, и царевич, и вся их свита.
Глава двадцать четвертая
МАРУСЯ «СБРЕНДИЛА»
Панна Марина, как и все вообще обитательницы жалосцского замка, осталась одна. Но она не ложилась, точно также не давала лечь и своим двум фрейлинам. Панна Бронислава, по ее приказу, то и дело выбегала из комнаты справляться — нет ли каких-либо вестей с пожарища и принесла одну очень важную весть: что горит православная церковь; Маруся же должна была развлекать свою панночку, которая была как в лихорадке.
— Как я счастлива, Муся, что у меня есть такая верная подруга, как ты! — говорила панна Марина, когда панна Бронислава только что снова выпорхнула вон. — Ни я тебя, ни ты меня никогда не выдашь. О нашей вчерашней прогулке мы обе, конечно, никому ни слова?