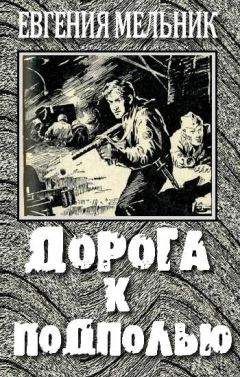Но не прошло и получаса, как в нашей комнате неожиданно, насупившийся и грозный, появился отец в сопровождении мамы. Мы вскочили… Ноги у меня стали трястись от ужаса. Момент нехорошей тишины. Мы уже стоим на вытяжку перед отцом и смотрим в землю, не смея поднять оцепенелых век.
— Подойдите, негодяи! — раздался его голос.
Мама крикнула от страха. Сама она не терпела гнева отца, который делал его просто жестоким, и между ними всегда происходила борьба из-за нас. Теперь её крик ещё больше напугал нас. Мы чувствовали, что и на этот раз, как уже было за другое преступление, он с нами жестоко расправится и что нас ничто не спасёт от его гнева.
— Подойдёте ли вы, негодяи!? — крикнул он ещё раз, топнув ногой с такой силой, что наш письменный столик затанцевал.
Я подошёл первый со смертью в душе и ещё ниже опустил голову.
— Ты чего стоишь? — крикнул он Коле, который даже не шевельнулся.
Коля подвинулся. Меня била лихорадка и я употреблял все силы, чтобы не дать отцу заметить это.
— Поднять головы!.. — скомандовал он отрывисто.
— Что за инквизиция… — прошептала мать. — Даже у дикарей так не наказывают детей…
Мы, избегая его взгляда, подняли головы, а он, схватив меня за подбородок, спросил:
— Кто крал в саду груши?
Всё было кончено. Ему обо всём рассказали. У меня сейчас же полились слёзы. Мать уже стояла между нами, страшась его гнева, а он, взглянув на её встревоженное лицо, насильно вывел её в другую комнату, запер дверь на ключ и крикнул:
— Я тебя, Лиза, сколько раз просил не вмешиваться в воспитание детей!..
Кончено… Мы были в его власти.
— Папа! — крикнул я не своим голосом, упав на колени, — это я, я один виноват во всём. Не бейте Колю! Папочка, простите!.. Я не знал, что это так дурно.
Коля стоял нахмурившись и стиснув зубы. При моих словах он как бы очнулся и холодно сказал, чтобы папа услышал:
— Неправда, Павка, я больше тебя виноват.
— Отойди! — крикнул отец, оттолкнув меня ногами. — Воришка — не мой сын. Не может вор быть моим сыном.
Он громко засопел и открыл внезапно дверь, ведшую в кухню, где в ожидании приказаний стоял старик Андрей.
— Андрей! — крикнул отец, — принеси верёвок…
Послышались шаркающие грузные шаги и вскоре у выхода показалась толстая спина старика Андрея. Его сопровождала большая собака, хромая Белка.
— Я понимаю, что такое преступление, — говорил отец, — могут совершить дети, которые выросли в какой-нибудь трущобе, не получившие ни какого воспитания, словом — не дети, а чудовища… Но вы?.. Мои дети — воры? Опуститься так низко, чтобы позволить какому-нибудь хаму-мельнику устроить на себя охоту… Нет, мне лучше самому убить вас.
Он стал ходить по комнате, а мы дрожа слушали…
— Мальчик может пошалить, — продолжал он, — может даже — ну, положим, — невинно солгать. Я сам был мальчиком. Но отважиться пойти в чужой сад, чтобы красть — это уже окончательная испорченность натуры. Сегодня понравились груши, завтра — чужая книжка, потом захочется денег… Убью вас, мерзавцы!..
Он опять распалился гневом, схватил Колю за шиворот и отбросил от себя. Потом с угрожающим жестом подбежал ко мне, но сдержался, остановленный моим безумным криком.
— Раздеваться!.. — крикнул он, не глядя на нас.
Я посмотрел на Колю: он стоял точно каменное изваяние и не трогался с места. Я сделал ему знак, но он только нетерпеливо повёл плечами. Какую глубокую жалость я почувствовал к нему, какое уважение к его твёрдости!.. Я ещё помедлил, но вторичное приказание отца, теперь более сердитое, подействовало на меня. Я отошёл в сторону и, краснея от стыда, стал сбрасывать с себя платье. Взгляд, брошенный отцом на Колю, остался без результата. Коля отрицательно махнул головой и это так рассердило папу, что он ударил его со всего размаху.
Наступила тишина. Только раздавалось шуршание платья, которое я складывал на стуле. Раскрылась дверь и вошёл Андрей с пучком верёвок в руке. У него было серьёзное, ещё более обыкновенного, строгое лицо, точно и он осуждал наш поступок. В двери комнаты стучалась мама и требовала, чтобы её впустили.
— Поставь скамейку, — приказал отец Андрею.
Андрей, шикнув на Белку, вилявшую хвостом и оглядывавшую всех нас, поставил скамейку посреди комнаты и стал в ожидании… В руке у него болтался пучок верёвок.
— Ложись, — сказал отец холодным злым голосом, обращаясь ко мне.
Я опять заплакал, но не повиновался.
— Ложитесь, панич, — с укором произнёс Андрей, зная что отец при моём отказе прикажет ему положить меня.
В одной рубашке, стыдясь и мучаясь, я с плачем подошёл к скамейке и лёг поперёк неё. Андрей подхватил мои ноги, положил их между колен, присев па корточки, и отец начал сечь…
Сначала от боли я метался и кричал. Отец что-то приговаривал, потом сердился, но я ничего не слышал. Боль была нестерпимая. Андрей как клещами держал половину моего тела — и я мог только извиваться. Раза два мне удалось соскользнуть на пол, но меня вновь подымали и сечение продолжалось. Мать кричала за дверью, и это увеличивало мой ужас. Я переставал чувствовать боль. Постепенно она начинала проходить и в какой-то миг странное неизвестное блаженство охватило меня…
Когда сечение кончилось, Андрей отнёс меня на кровать и накрыл одеялом. Я лежал и ненавидел отца всеми силами, и мне казалось, что всю жизнь эта ненависть будет гореть во мне.
Очередь была за Колей. Я ещё видел, как раза два отец ткнул его кулаком в грудь; видел героическую борьбу крепкого мальчика с двумя великанами, которые желали его повалить и раздеть; слышал вопли матери, но когда Коля крикнул — я тоже закричал — и всё у меня смешалось.
Я стал приходить в себя. Возле меня сидела мама и утешала. Она плакала над нашими почерневшими телами и умоляла Колю, чтобы он примирился с нею. Меня же она без слов целовала, чувствуя родное себе в моей слабости и покорности, и я, благодарный ей, с открытым сердцем отвечал на её ласки, забыв уже про гнев отца, простив ему, счастливый в этой прекрасной атмосфере добрых искренних чувств, без которых я увядал и не мог жить.
Коля же всё хмурился, но и его лицо прояснилось, когда вошла бабушка и, заплакав старческими слезами, припала к нему и стала утешать нежными, полными любви и жалости, словами. И отец пожалел о своей жестокости. Он уселся на моей кровати и добрым задушевным голосом доказывал, почему нас нужно было наказать, и вспоминал о своём детстве. Ах, всё-таки он крепко любил нас!..
И весь этот вечер после дня несчастий прошёл в каком-то умилённом ворковании, и большая тень от наших общих и пылких мечтаний красивыми узорами падала на будущее.
Источник: Юшкевич С. С. Собрание сочинений. Том IV. Очерки детства. — СПб.: «Знание», 1907. — С.19.
Оригинал здесь: Викитека.