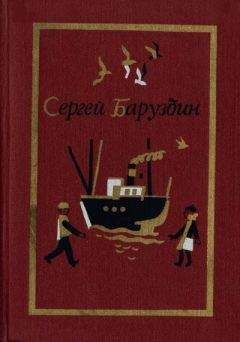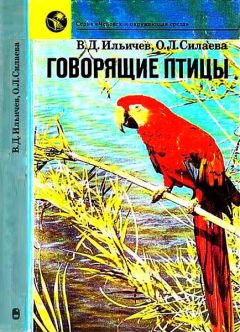Я помню все. Как не стало Вальки и Марата, как немцы, может быть, потому, что их не стало, не прошли через Москву-реку.
И еще — как чуть раньше, до их гибели, появилась у нас в окопе маленькая птаха — воробей не воробей, синица не синица, а так, что-то маленькое, забавное и непонятное.
— Смешная! — сказал тогда Марат.
— Смелая! И войны не боится! — сказал Валька. Достал из кармана шинели корку мерзлого солдатского хлеба. — На, солдатка!
Солдатка! Так он назвал ее. Не та ли это солдатка, что прилетала к нам на переделкинское окно и сейчас значится в атласе птиц как московка?
Но бог с ней — с птицей…
Песня! Как она кончается?
Я бормочу про себя слова песни, которые напомнил мне сегодня транзистор:
Ничто в полюшке
Не колышется…
Пастушок-то напевал
Песню дивную…
Вспоминаю, стараюсь вспомнить. Кажется, не могу!
И тут, уже после чая, Машка:
— Папочка! А вот это как:
В небе спутник взлетел
Высоко,
Жаль, что небо от нас
Далеко,
Жаль, что завтра в школу мне
Надо.
И я б полететь была
Рада.
И вдруг я вспомнил. Вспомнил не только слова песни, а и голоса — Валькин и Марата, и рядом голоса зимнего леса, голоса команд, которые звучали тогда, и шум взрывов у берегов Москвы-реки. Вспомнил все, как было в ту пору, — и тихий приглушенный лесом дуэт моих друзей вспомнил:
Как напала на меня
Грусть жестокая.
Разлюбила меня
Черноокая.
Ничто в полюшке
Не колышется.
Только грустный напев
Где-то слышится.
А я, живой, так и не вспомнил после войны их. И туда, под Старую Рузу, где похоронены они, не выбрался…
Три дня в неделю я провожу в городе, три дня — тут, в Подмосковье. На седьмой — на воскресенье — забираю сюда Машку. Сегодня с нами и Витя. Человек обычно занятый, как все двадцатилетние, на сей раз он вырвался к нам…
Рядом с нами ели и сосны — чудесный наш лес.
— А кто раньше стареет — ель или сосна? — спрашивает меня Машка.
В самом деле, кто?
Каюсь, я этого не знаю и никогда не думал, кто из них раньше стареет.
Вроде бы ель. Впрочем, она с детства выглядит пожилой — по стволу и по нижним, опущенным к земле лапам.
Сосны же сильны и молоды, светлы по стволам и бодры по веткам своим, поднимающимся почти к самому-самому небу.
Машке, видно, не терпится — или просто она что-то задумала, — и вновь вопрос:
— А почему стволы у сосен такие старые? Шелуха с них сыплется? Сыплется! Значит, вовсе они и не молодые… Елки мне больше нравятся. Помнишь нашу елку тут, на даче?
— Еще бы не помнить! Вы уехали, а я тут полдня разбирал ее — все твои украшения, а потом палки-иголки.
— А я стихи про ту елку придумала, — говорит Машка. — Слушай:
Сегодня, ребята, праздник у нас!
Елка громадная ждет вас.
Елка хорошая, в лампочках вся…
Вот дождик блестящий,
Вот зайка сидит,
На вате под елкой собачка лежит,
И есть тут поросята
И серый волк.
Всего не расскажешь,
Много всего.
— Ничего стихи! Даже вовсе не плохие! — говорю я Машке. — Для твоего, конечно, возраста…
На окне появляется птица — воробей не воробей, синица не синица. Пепельно-серая птица. Чуть черная птица. С белым пятном на черной голове.
— Смотри! Смотри! — кричит Машка. — Московка! Правда московка!
— Московка? — не поверил я. — А откуда ты знаешь, что московка?!
— Ты же сам мне книжку подарил, папочка! — с укоризной произносит Машка. — Я там все прочитала! И если хочешь знать, все про московку наизусть помню. Слушай: «…семья у нее большая: семь — десять птенцов, а гнездится она дважды в год. Осенью московки собираются стайками и путешествуют по березовым и ольховым лесам. Там они из шишечек и сережек с большой ловкостью выклевывают семена. Много московок прилетают к нам в это время с севера».
— Вот память так память! — сказал Витя. — Мне бы такую!
— А ты запоминай! — посоветовала Машка. — Будешь запоминать и все запомнишь!
Мы с Витей уложили Машку спать, но она долго ворочалась, сопела и кряхтела.
Наконец, я не выдержал:
— Ну, что такое? Почему ты не спишь?
— Папочка, — виновато произнесла Машка, — а можно я тебе прочту про московку? Я сейчас придумала. А-а?
И она прочитала:
Есть такая птица-плутовка,
Наша москвичка-московка,
Не в Москве живет, а на даче,
Прыгает и глазки таращит.
Ест московка всех насекомых,
Только нет у нее даже дома.
Мы московке домик поставим,
Только пусть скорее лето настанет!
— Очень хорошие стихи! — сказал я. — Просто очень, очень хорошие! А теперь спи, московка!
Я думал не столько о Машкиных стихах, сколько о птице этой — московке. Оказывается, и неприметная пичуга может о многом напомнить…
Машка уснула. Мы сидели с Витей — пили чай и смотрели телевизор. К слову, и тем хорошо тут, за городом, что и телевизор работает лучше, чем в Москве. Видимость отличная, и никаких помех.
— Пап, — вдруг сказал Витя, — а ты заметил, что Машка все о лете говорит?
— Заметил, а что? Она же у нас выдумщица!
— Нет, здесь дело не в этом, — серьезно сказал Витя. — Просто она твой разговор с мамой тогда слышала. Помнишь, когда ты повестку о медали «За оборону Москвы» получил?
— А какой разговор?
— Ну, что вы с мамой летом собираетесь пройти по Москве-реке, Рузе, Наре, Воре, в общем — где воевали в сорок первом. Так вот, Машка боится признаться, но ей очень хочется с вами…
Теперь, кажется, и я все понял.
— Возьмем с собой Машку, — сказал я. — Даже интереснее вместе. И для нее полезно!
Сказал, а про себя подумал… Подумал, что не вспомнил я о Машке, а она мамины медали подсчитывала. И вот мою последнюю, запоздалую, приняла куда серьезней, чем я. Для меня эта медаль была давним, пройденным, а для нее, оказывается, нынешним. Для нее? И для меня также, но только я боялся раскрыться перед Машкой, а, оказывается, надо было, необходимо было раскрыться.
Говорят, родители, взрослые родители учат детей. А вот, оказывается, и дети учат.
И если бы Машка сейчас не спала… Я бы бросился к ней и сказал бы что-то хорошее, доброе вместо одного слова: «Спасибо!» А можно было сказать ей и это «спасибо».
По телевизору выступал Махмуд Эсамбаев.
— Нравится? — спросил я Витю.
— Нравится. Я люблю его. Здорово он танцует! — признался Витя и через минуту вдруг добавил: — А меня вы возьмете? Мне бы очень хотелось! Ведь я, пап, хоть и взрослый, а никогда не воевал. Я только по книжкам знаю, как тогда под Москвой… И вы с мамой никогда раньше не говорили. Возьмете?
Конечно, я сказал, что возьмем, но, каюсь, мне было чуть-чуть не по себе.
Витя! Что ж мы забыли и его? Я забыл? А он, как и Машка…
В самом деле, не знаю, хорошо или плохо, когда человека сравнивают с птицами. Птица московка и — война. Птица московка — и вот теперь Витя. Знаю, что о птицах надо думать. Но о людях — еще больше. Ведь они, как птицы, разные…