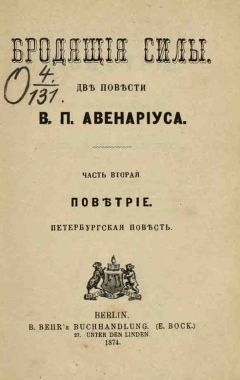— A butyrum vaccinum [8]? — строго вопросил хозяин.
— Сию минуту, — отвечала служанка, торопясь принести масло — кусок в несколько фунтов, завернутый еще в лавочную бумагу.
Заварив чай, Чекмарев наклонился под кровать и, отодвинув, не говоря ни слова, в сторону ноги Ластова, вытащил из-за них полновесную пивную корзину.
Потом с тщанием начал расставлять симметричным треугольником батарею бутылок посредине стола.
— Кто пьет пиво, — объяснил он, — пьет его в эмбриональном виде, непосредственно из бутылок; стаканы определены для чаю.
Пивной треугольник тут же расстроился. Наденька завладела одной из бутылок и пальцами ловко раскупорила ее.
— Оно ведь фрицевское? — обратилась она деловым тоном к Чекмареву.
— Само собою.
Студентка взглянула мельком на Ластова — и сконфузилась: глаза их встретились.
— Чему вы удивляетесь? — спросила она развязно. — Пиво очень питательно.
Nunc est bibendum! Nunc pede libero
Pulsanda tellus.[9]
Встряхнув кудрями, она приложилась губами к горлышку, но, от чрезмерного усердия, чуть не захлебнулась и раскашлялась.
— Век живи, век учись, — оправившись, сказала она и, не падая духом, вновь поднесла ко рту питательную влагу.
— Вы, Липецкая, — обратился к ней Чекмарев, — желали, кажется, изложить кое-какие мысли по поводу молешоттовского «Kreislauf des Lebens» [10]?
— Да, и прошу слова, — отвечала она, смело взбрасывая свою хорошенькую головку.
— Внимание же, господа! — провозгласил председатель, прибегая к своему неизменному вечевому колокольчику-кулаку. — Будет говорить одна из достоуважаемых товарок наших — Липецкая.
Говор умолк; взоры всего собрания с любопытством устремились на студентку-оратора.
Наденька поправила очки, оперлась руками на стол, откашлянулась и заговорила:
— Господа! Все вы, без сомнения, до одного знаете Молешотта, как свои пять пальцев? Не сомневаюсь также, что во всем, исключая разве незначительные частности, вы сходитесь с ним в воззрениях на духовную жизнь человека, на значение его в ряду остальных органических творений. Представьте же себе, что некий индивидуум не ознакомился еще с основными истинами мира; спрашивается: следует ли нам, посвященным, оставлять его в неведении или нет?
— Что за вопрос! Разумеется, нет, нет и тысяча раз нет!
— Хорошо-с. Но ежели сказанный индивидуум страшится наших суждений, ежели нарочно затыкает уши, чтобы не слышать нас, всеми святыми упрашивает не говорить ему ничего более, — как поступать в таком случае?
Бреднева, сидевшая до этого времени неподвижно, безучастно, изменилась слегка в лице, отделилась головою от стены, к которой прислонялась, и тихо промолвила:
— Ты это про меня, Наденька?
— Да, про тебя, коли ты уже сама выдаешь себя.
— Беру вас, господа, в свидетели, — обратилась Бреднева к окружающим, — имела ли я основание просить ее молчать? Я еще так слаба в естественных науках, что не могу вполне проверить те факты, на которых построены ваши теории. Факты эти могут только спутать меня; ничего не давая взамен, лишить меня краеугольных камней теперешнего моего консервативного миросозерцания, — камней, быть может, и вырубленных не из плотного мрамора, как ваши, а из рыхлого песчаника, но тем не менее служащих хоть каким ни есть фундаментом для моих шатких, отрывочных понятий. Ваши же мраморные глыбы обрушиваются на меня горной лавиной и грозят раздавить, расплющить меня.
— Бреднева в известном отношении права, — наставительно заметил Наденьке председатель. — Ребенка вы ни за что не научите читать, пока не покажете ему, как выговаривать отдельные буквы. Как же вы хотите, чтобы она поняла что-либо разумное, когда не может еще проверить на опыте подлинность приводимых вами данных?
— А вы, Чекмарев, в том только и убеждены, что проверили сами на опыте? Вы уверены, например, что земля не стоит на трех рыбах, а несется в пространстве, что она почти сферична, у полюсов только еле сплюснута? Ведь уверены?
— Ну, разумеется.
— Что же вас убедило в том? Делали вы опыты с маятником Фуко, измеряли самолично меридианы? Наблюдали наконец с помощью телескопов лунное затмение?
— Нет.
— Откуда же у вас уверенность, что земля апельсинообразна? Из книг вычитали? Да, может, книги лгут? В том-то и дело, любезнейший мой, что ни один смертный не может быть специалистом по всем отраслям знания, что мы должны верить на слово своим собратьям по предметам нам чуждым. Вам даются готовые факты — выводите заключение. А не можете сами, так специалисты разжуют за вас и в рот вам положат, знайте только глотать. Первое дело, чтобы убеждения ваши были истинны, а так ли, иначе ли дошли вы до них — дело второстепенное.
— Все это очень красиво сказано, — возразила Бреднева, — но кто, скажи, отвечает мне за то, что ваши-то убеждения и суть истинные, что они не глупое, одуряющее вино?
Пиво поднялось в голову студентке. Она с лихорадочною живостью вскочила с места, загасила с сердцем об стол папиросу и с пылающими щеками, с раздувающимися от волнения ноздрями (глаз ее, за синим цветом очков, не было видно), обратилась к оппонентке с крылатою речью:
— Что такое? Наши убеждения — глупое вино? Убеждения Ньютона, Канта, Гете — глупое вино? Убеждения первейших натуралистов нашего времени — глупое вино? Одни ваши понятия о мире, понятия профанов в науке мира, верны и непреложны? Поздравляю! Вот так логика! Подлинно, логика профанов!
— К чему так горячиться, моя милая, — остановила порыв гнева холерической ораторки ее лимфатическая подруга. — Я знаю людей, круглых профанов в науке мира, то есть в естественной истории, а между тем весьма неглупых, приносящих обществу немаловажную пользу. У всякого барона своя фантазия. Мы убеждены в одном, вы в другом: «Кто прав, кто виноват — судить не нам». А ведь может же статься, что ваше ученье все-таки глупое вино? В таком случае ты, отвратив меня насильно от истины, возьмешь ведь грех на душу?
— Если учение наше в самом деле ложно, то ты, так или сяк, рано или поздно, убедишься в том и можешь воротиться на путь истинный. Ложь недолговечна и распадается сама собою.
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернить,
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертить.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей,
Создание гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Но в том-то и дело, что мы не художники-варвары, вы же не картины гения, а лубочные, толкучные!
— Позвольте и мне сделать одно замечание, — вмешался тут Ластов. — Всегда ли хорошо навязывать другим свои убеждения, если они, по-вашему, даже вполне верны? Mundus vult decipi — ergo decipiatur [11]. Они счастливы со своим миросозерцанием, а вы взамен их отрадных, светлых иллюзий даете им одну горькую, голую истину, которая может отравить им всю будущность, довести их, пожалуй, до отчаянья.
Вокруг столов поднялся глухой ропот, сквозь который можно было расслышать нелестные для учителя эпитеты:
— Консерватор! Филистер! Тупоумец!
— Et tu quoque, Brute [12]? — продолжала, все более воодушевляясь, Наденька. — Не лучше ли уж отчаиваться, чем жить весь век, хотя относительно счастливо, неразумною тварью? Горчайшая истина все-таки в миллион раз лучше сладчайшей лжи. Да и будет ли кто еще отчаиваться? Вот хоть бы я: не прошла еще, кажись, до конца концов естественных наук, а вполне уже разделяю воззрения натурфилософов, нимало не надеюсь, что в заключение меня по головке погладят; и ничего себе, живу, не рву на себе с отчаянья волос. Гасители же судят о нас как? «Не ожидают, мол, за свое поведение ни розог, ни наградных пряников, так что же им препятствует сделаться первостатейными мошенниками и злодеями?» Слепцы! Да ведь это — то самое обстоятельство, что мы не признаем над собою фантастического deus ex machina, что мы сами должны устроить свое земное счастье, и побуждает нас поступать по совести, творить по мере сил добро. Первое условие истинного счастья — все же самоуважение! Если я, положа руку на сердце, могу, не краснея, сказать себе: «Ты делала все, что было в твоей власти для облегчения жизни твоим ближним, за тобою нет ни одного гнусного поступка, ты можешь уважать себя», — тогда душа моя светла, безмятежна, как безоблачное небо, тогда я счастлива! А надломят мою физическую, слабосильную натуру житейские невзгоды — совести моей они не сломят; я умру, весело улыбаясь! И после возможности на свете подобного счастья оставлять еще людей утопать в невежестве, давать им наслаждаться их паточными пряниками? Ни за что! Пусть слабые очи некоторых и не вынесут блеска ничем не прикрытой, ослепительно-чистой истины, пусть они, как саисский юноша, растеряются и прохнычут всю жизнь — туда, стало быть, и дорога! Не было здоровых задатков для настоящего человека — ну, и жалеть нечего!