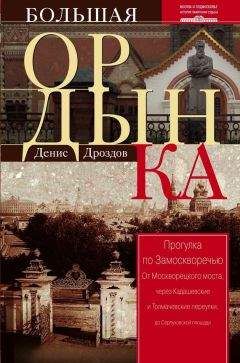Я просыпаюсь оттого, что собака выскакивает из-под моей руки и начинает лаять.
Большая лошадиная морда суётся сзади к нам в сани и кивает, будто мне кланяется. Над собой я вижу мягкие губы, влажные ноздри, белую полосочку от носа к большим добрым глазам и протягиваю руку. По лошадь вздёргивает голову, отстаёт немного и объезжает нас, проваливаясь в рыхлый снег. Стукаясь о наши розвальни, мимо продвигаются сани; в них сидит человек с красными щеками, в меховой шапке и правит.
Вокруг меня всё так же светло, но это уже не поле, а городская улица. Лошадь останавливается перед деревянным домом с крылечком и жёлтыми ставнями. Из-под крыши вдоль всего дома висят толстые длинные сосульки. У ворот в жёлтой соломе роются куры, и красный с зелёным хвостом петух, выгибая шею, звонко кричит «кукареку».
Из дома выбегает мальчик. Хозяин лошади говорит ему: «Открой ворота, сынок!» — и зовёт нас погреться. Но дедушка Никита Васильевич отвечает, что нас уже дома заждались. Мы прощаемся и уходим. Из-за угла, позванивая и дребезжа, выезжает конка.
Я сижу рядом с дедушкой на лавочке конки, еду по Москве и смотрю на улицы и дома. За день они сильно изменились: снег около домов почернел и стал ноздреватый, как губка, крыши мокрые и блестят. И везде с крыш вытянулись толстые полосатые сосульки. Вот как скоро жаворонки принесли весну!
Мальчишка выскочил из булочной с жаворонком в руке. Жаворонок весь розовый с чёрными изюминками вместо глаз, крылышки и хвостик разведены веером.
— А мне жаворонка? — спрашиваю я дедушку.
— Жаворонка! Мы с тобой живого жаворонка слышали. На что тебе такой?
— Мне жаворонка хочется!
— Ничего не сделается, потерпишь! Долго проходили мы с тобой, последнего жаворонка, видать, парнишка купил. Больше не осталось.
Мне жалко, что жаворонка мне не достанется. Может быть, в булочной остался хоть один? Но конка катится быстро, лошади, понукаемые кучером, торопятся. И мальчик и булочная с золотым калачом на вывеске уже далеко.
— Чего насупилась? — говорит мне дедушка Никита Васильевич. — А где мы с тобой побывали-то! А?
Я снова вижу, как я ехала на розвальнях с желтой собакой и лошадиная морда кивала у меня над головой, а в небе звенели голоса маленьких птичек. И, не умея выразить, как всё это мне нравится, я молча лезу к дедушке на колени.
Дома мама выбежала нам навстречу и сказала, что «старого и малого» нельзя пускать вместе: всегда пропадут. И спросила, где мы были.
— Мы живого жаворонка слышали! — сказала я.
Мама развязала и сняла с меня платок и пальтишко, и они сейчас же запахли речкой и свежим воздухом, как пахло там, в поле. Волосы у меня слежались, и их пришлось расчёсывать гребешком. Рукавички были мокрые, их сразу же повесили на отдушник. Мама стала доставать из шкафа и ставить на стол тарелки, а дедушка Никита Васильевич понюхал табачку и громко чихнул.
— Хорошо погуляли, — сказал он. — Одно плохо, Грунечка: пока мы гуляли, парнишка последнего жаворонка купил.
— Да ну? — спросила меня мама, улыбаясь. — Тебе жалко?
— Жалко! — ответила я, залезая на стул. И вдруг увидела на столе румяного, красивого жаворонка. Он смотрел выпученными глазками, и носик у него немного пригорел.
В это утро солнце жарко светило в наши окна и грело мою голову, склонённую над столом. Я потрогала волосы — они были совсем горячие.
— Пора уже рамы выставлять, — сказала мама.
— Весна!
И после чая она пошла со мной к Даниле-дворнику в сторожку. С радостным лаем кинулся ко мне Чок, белый породистый щеночек, подаренный мне дядей Петром. Он не прыгал, а, подняв голову, вилял обрубком хвоста и смотрел на меня блестящими глазами. Ясно было, что он звал меня побегать по двору. И пока мама разговаривала с Данилой, может ли он сегодня придти вытащить рамы, мы с Чоком выбежали вверх по лестнице из сторожки.
Уже самый этот бег вверх по ступенькам доставляет радость. Мы с Чоком словно вырываемся из глубины подвала в голубой и ясный четырёхугольник открытой двери. И вот последняя ступенька, под ногами твёрдая песчаная, с мелкими камушками земля, и вокруг нас широкий и светлый простор!
Чок мчится впереди меня, чуть приостанавливается, поворачивает ко мне голову и снова бросается вперёд маленькими лапами, как будто он нападает на кого-то перед собой. Ветер охватывает меня, треплет волосы, мимо убегают забор, крыльцо, на бегу я вижу, как из красильной двое рабочих выносят на длинной палке большой ушат с краской. Ушат покачивается, синяя маслянистая поверхность морщится, и в ней отражается, блестит солнце.
В душистый тёплый воздух врывается струя кислого, тяжёлого запаха, но это уже позади. А впереди сарай, и за ним сад. Над крышей сарая в голубое ясное небо поднимаются голые ещё ветви высоких деревьев. Я пролезаю между досками забора: в саду ещё кое-где лежит снег, но его осталось совсем мало, а земля чёрная, мягкая, и от неё поднимается лёгкий пар. Ноги оскользаются на ней и оставляют большие следы. Интересно, что солнышко греет так сильно, а ещё лежит снег! Через забор заглядывают девочки, наши подружки, мы с Дуняшей всегда с ними играем. А! Сейчас я их встречу…
Я подбегаю к плоскому, как огромный блин, пятну снега: надо быстро скатать снежок и встретить друзей. Но рука скользит по блестящей и твёрдой поверхности, снег очень крепкий, он весь точно слеплен из ледяных крупинок. На языке они быстро тают, и от них хорошо пахнет свежей водой.
И вдруг у края снега, там, где он тонкий и прозрачный, прилёг к чёрной земле, я замечаю: из земли, покрытой бурым прошлогодним листом, поднимаются два или три зелёных плотных листка. Листья чуть разошлись, между ними вылез плотный стволик, а на нем видны голубые цветы!..
Какие блестящие, совсем новенькие листики, как упорно пробиваются они вверх рядом с холодным снегом! Да что же это такое? Как они не боятся холода? И вот я какая: сама нашла эти цветочки, никто их мне не показывал, я сама!
— Девочки! — кричу я. — Идите сюда! Подснежники!
Я не знаю, рвать или нет это необыкновенное чудо — цветок, выросший под снегом, но я уже протягиваю руку… И в этот самый миг мелькают чьи-то пальцы, хватают цветок и срывают.
— Дура! — кричу я в отчаянии. — Кто тебя просил? Зачем ты его сорвала? Это мой цветок!
Я мчусь за длинной, убегающей от меня худенькой Феней; вот я уже почти догнала её, я заношу руку, чтобы ударить её, и в этот миг нога моя скользит по мягкой грязи, и я растягиваюсь на земле.
Уже не замечая, что всё моё пальтишко выпачкано, я вскакиваю и снова бегу за Феней. Но крепкая на ощупь поверхность снега не выдерживает, мелькающие передо мной фенины ноги в полосатых шерстяных чулках проваливаются всё глубже, мои тоже, и вот мы с ней уже не бежим, а, едва переводя дух, барахтаемся по пояс в снегу и обе рядом падаем на снег. Я хватаю её за руку, вырываю подснежники… Но из нескольких цветов остался только один, и в помятых листьях нет уже той весёлой упругой силы, с которой они так смело вытягивались рядом со снегом…
— Куда это вас занесло? Разодрались, что ли? — спрашивает дворник, подходя к нам. — Тебе-то стыдно драться, — грозит он мне. — Вот погоди, я мамане скажу…
— Феня подснежник сломала! — жалуюсь я, бредя по снегу к Даниле.
— Невидаль — подснежник! Идите, я вас помирю.
Большой, широкий Данила направляется к сараю, и мы все бежим за ним. Он подходит к тому месту, где я нашла подснежник, и осторожно отгребает в сторону прелую листву. И под ней мы видим совсем маленькие ростки подснежников. Одни… другой… ещё… ещё! Твёрдые их синеватые листья плотно прижались друг к другу, цветов ещё не видно, но мы все радуемся первым весенним растеньицам. Теперь мы вспоминаем, что подснежники росли здесь и в прошлом году, только мы не заметили, откуда они появились. Самое интересное — это то, что мы сами увидели, как цветы сидят под снегом, дожидаясь весны.
— Вот и ходите, проведывайте, — говорит Данила. — Они обогреются на солнышке и зацветут.
— Да, теперь уж мы не пропустим ни одного денька, всё будем наведываться!
Никто не видел, что я пришла домой в мокром насквозь платье, сняла его и положила за кровать. На мокрое бельё я надела другое платье, и оно тоже сразу отсырело.
— Что это за переодевание? — строго спросила мама.
Но у неё не было времени вникать и разбираться. Пришёл Данила, и началось интересное для меня и, должно быть, трудное для него дело. Сперва Данила, ловко действуя стамеской, выковыривал замазку вокруг рамы, и замазка сыпалась на подоконник и на пол. Потом он отогнул клещами гвозди — забитые в подоконник, они держали зимнюю раму, — открыл форточку и, взявшись за перекладину, начал, легонько потряхивая, тянуть раму к себе. Так он потихоньку всё выдвигал да выдвигал её, наконец вынул и поставил на пол рядом с окном. Потом он вверху и внизу открыл задвижки другой, наружной рамы, схватился за ручку, нажал — и вот обе створки её распахнулись. В комнату хлынул свежий, душистый воздух, и сразу всё, что было до сих пор за окном, приблизилось: стали слышны голоса идущих по улице людей, по камням мостовой задребезжала пролётка, зачирикал, как будто у нас в комнате, воробей, близко залаял Чок, и шум фабрики вошёл в открытое окно. Я вдруг почувствовала, сколько же разнообразных голосов, движений и шума, зимою приглушенных рамами, теперь наполняют всё вокруг меня!