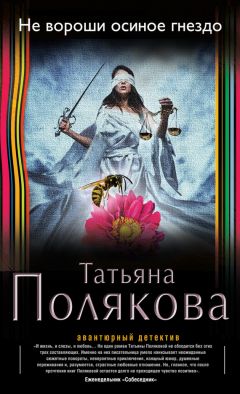Полыхнула сухая рожь, порхнули вспугнутые перепелки, и кровью отлился огонь в реке…
Поздно заметили в усадьбе.
На неоседланных конях мчалась дворня, плача и надрываясь криком, натыкалась на огонь, металась, скакала в село и звала на помощь.
Зверем ревел матерый помещик, выблевав на круп коня дорогие вина и протрезвев со страха. Смолкла музыка, сжались бескрылые бабочки-барышни и слушали страшный, хрустко-шелестящий шум ржаного пожара. Черное-черное было небо, и кровавым ножом шел огонь от деревни к белому горлу усадьбы, остервенело полыща попадающиеся на пути кустарники.
До зари стоял и смотрел Дикой, как сожрал пущенный им огонь двадцати-верстную скатерть хлеба. Под утро потух огонь, замирая в гатях и болотах у самого края леса. Зализал огонь на время тоску обиды Дикого. Белым черепом на погосте торчала на черном пожарище усадьба.
У барина в амбарах ржи напасено на пять годов. Засеял он снова поле, а мужики волками взвыли, когда не дал, осерчав за поджог, обещанных взаймы семян. Голодная шла зима и чудилось-стучала гробами.
Но без гробов в тот год хоронили людей.
На всю Россию кнутом хлыстнуло страшное слово — война. Сушили бабы сухари. Плакали навзрыд гармоники. День и ночь скрипели, надрывались телеги. Увозили народ на войну. Барин часто стоял на перекрестке около усадьбы, смотрел на проезжающие гурты телег и, снимая шапку, кричал:
— Езжайте, братцы, на славное дело, постойте за родину, за веру православную. Стар я ехать- сыновей посылаю!
Не знали солдаты, какая родина, но заражались каким-то болезненным задором и кричали, забывая обиду:
— Побьем супостата, не дадим Расею!
Отчего и зачем война-не знал никто.
— …Ерманский царь велел нашему ото тысячей баб ему в полон отдать, потому у ерманцев баб нет, а наш говорит: «драться буду, до последнего солдата, а иад Расеей шутить не позволю»-вот и война… — рассказывал черненький солдатик, конвоируя новобранцев.
— Н-да, ежели от етова, то штука сурьезная.
Чесали лапотники затылки, прощаясь с родными хатами. А где-то далеко, в саксонских и баварских деревушках, тоже плакали жены и матери, и увозили поезда Фрицев и Гансов, тоже мужиков, на войну за господ.
Ушла Васькина мать за кусками и вернулась нескоро. Мало кто видел, — опустело, село, — как из-за бугра пришел согнутый и нетвердый человек в серой шинели.
Подошел он к забитой хате, сел к гнилому углу и, вдыхая родной запах, плакал без слез, сухими глазами, как плачут мужики.
Вечером шла кусковница, и тоска затянула ее к родному месту. Сесть на своем крыльце и хоть чужой кусок-да съесть около дома. Серый-серый спускался вечер, серее крыш, серее солдатской шинели, и тихо вздыхал, клоня голову курчавую к оврагам. Как два сыча, сидели старики у хаты.
Поздняя и ненужная пришла радость. На завтра уходить вчера выпущенному из острога Федоту на войну.
Опять стоять и гнить хате, совсем высохнет Мать побирушкой-кусковницей.
Плакала она всю ночь напролет, и не было слез у нее, а только рвалась на части сухая грудь.
Утром переобул Федот новые лапти и ушел, не повидав сына. Васька с дедом пас коров на лесном отгуле, и итти до него далеко.
Долго глядела кусковница, как прятали, закатывали увалы гнутую фигуру мужика.
— Воин, тоже воин, за што застаивать, за што ратовать, за жисть таку?
Какой лиходей принесет хуже этой!
По лесу курится туман, идет от низин, виснет меж деревьев, путается в кустах. Солнце еще не встало, но заря красной медью горит и вязнет, просвечивая на зубах леса. Тенькают в лесу птицы, скрипит на поляне дергач, а в озере хлопают крыльями и плещутся дикие утки. Вдруг где-то раздался звон. Мутный, глухой, еще, еще…
Звонили тихо и не в лад, и что-то шумно двигалось, неся этот звон по курчавым кустарникам лесной вырубки. Звон ближе и гнусавей, такой чужой, жуткий-в лесу.
— Ай, лобан, ты-шшь-куда? Свистнул кнут, и парнишка в свитке выскочил и, сверкая подковыренными лаптями, заскакал по пням опере-живать забзыкавшего бычка. Летела и орала неистово впереди хозяина собака. Из кустов поднялись сытые коровьи морды и озорно поглядывали, не скрывая желания, тоже побзыкать по утреннему холодку.
— Но-но, вот я вам, я вам, — угадывал их желание старик и хлопал в воздухе звонко кнутом.
Коровы опускали головы и опять хрупали траву, поматывая головами. Гнусаво донкали у них на шеях медные балаболы. Бычок, побзыкав, вертался в стадо, а пастушенок, высунув язык, уже несся за другой скотиной, чуть не ревя с досады и спотыкаясь о пеньки. Правда, собака Тузик старалась изо всех сил, исходя лаем, но от этого Дикому было не легче. Когда они с дедом пригоняли стадо на ночь в отгороженный тыном загон, он хлестался, как убитый, у шалаша и ныл:
— Ой, ноженьки, ой, ноженьки разломило! Не погоню я их больше, што хошь, не погоню!
— Ничево, ничево, — утешал дед, — терпи, Дикой, до осени, а там нам зиму в потолок плевать. Мать на куски не пошлем.
Васька вспоминал мать, как он видел ее, проходя селом, — стоит и тянет: — «христа ради». Кто дает, а кто гонит, как собаку. А ведь на эти куски ему и рубаху купила. — Эх, жистя! — Стискивал зубы и переставал ныть. Туганил дед кашицу-ужинали. Совсем вечером на большущих фурах приезжали с имения коровницы доить коров.
Всегда они были веселые и красные, и пахло от них парным молоком. Недолюбливал их Дикой- вспоминал, как такие же ражие работники мерина колотили.
— Барские, не нашинские, — и косился.
Один раз вместе с коровницами приехала мать. Сидела рядом, совала синие мятные пряники и гладила по голове.
Ваське было стыдно: чего она, чай-ко, не маленький он.
— На войну угнали тятьку, Васинька, — уронила мать, — прямо из острога, и выпустили для того.
Бросив весточку, уехала опять с коровницами.
На прощанье ласкался и утешал: «Ты, мамка, потерпи, осень отвалит, нам барин денег — во! Кучу. Куплю тебе само пряху, будешь прясть, а про куски забудь».
Ночь была глазастая и свежая.
Наелись о дедом той же кашицы и в сотый раз высчитывали, сколько им барин денег отвалит.
Жевали жвачку коровы, а Тузик смотрел на них из-под лохматых бровей, повиливая лисьим хвостом.
— Мм-да… это значит, шестьдесят рублев… деньга, а! Двадцать рублев жеребенок…
— За пятнадцать купишь, — перебивает Васька.
— Хлеба нужно подкупить, тоже пятнадцать, остается тридцать рублев, деньга, а?..
— Вырр-ав!
— Взы-взы-кто там?!
В чаще зашуршало.
Васька схватил дубовый колдай и выскочил.
— Ну-ну, выходи, кто есть, я вот же огрею, — стращал он невидимого врага.
Опять зашуршало.
— Дедка, ведьмедь!
Старик вылез и, щелкая курком, поднял к плечу тяжеленную, перевязанную веревкой, шомполку.
— Если добрый человек, выходи, убью, слышишь?
Кусты раздвинулись, и нерешительно вышел на поляну человек. Он был серый и сливался с землей, как оборотень.
Кусты раздвинулись, и вышел человек.
Старик и Дикой насторожились.
— Не тать я, не трожьте, — проговорил серый, и слыша болезненный голос, старик опустил ружье.
— Чево же прятался, убить мог.
Человек перелез с трудом через забор и, сняв с головы тяжелую солдатскую шапку, поклонился пастухам.
Седая плешивая голова поразила и деда и Ваську.
— Кто же ты будешь, в такую пору, в лесу?
— Беглый я с войны… проголодамши очень.
— Эк ты, исхудал, сердяга.
Васька и дед пристальней глянули на лицо беглого и увидели острые скулы, обтянутые грязно-белой кожей, и острый покойничий нос Глаз совсем не увидели. Не глаза, а какие-то ямки о водой серели на месте глаз.
Дед дал солдату остатки кашицы и луку с хлебом.
Солдат ел по-чудному, насильно проталкивая куски в горло.
— Плохой ты, не сладко бегать-то?
— Газом я травленный, душа харчи не принимает, помереть мне, в леса ушел, на воле-то легче.
— Это как же газом-то тебя?
— Немец пущает газ. Скажем, вот, как туман пустит по ветру, едучий он, мышь застигнет, и ту травит, лист сохнет, а человеку двыхнуть невозможно. Слеза из глаз идет, и нутро горит.
Большие тыщи он у нас потравил-как снопы валил. Кто и отживел, се равно-не человек.
Поглядел Васька на солдата, — и впрямь не человек.
— Значит, ево берет нас?
— Какое берет, ничья не берет, он нас, мы его, светопреставление. Всю землю пушками разворотили. Что ни яма-человечьей тухлятиной забита… за што, про што, неизвестно. Ихние пленные упирают: наш царь и наши енералы всему виной. Наши на ихнего царя говорят…
— А еще говорят, — понизил голос солдат, — кабы не было ихнего и нашего царя, и драться незачем…
— Да мало ли говорят, а бьют народ почем зря.