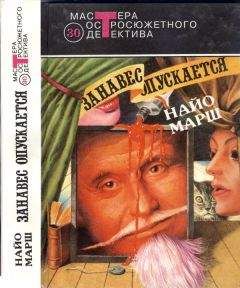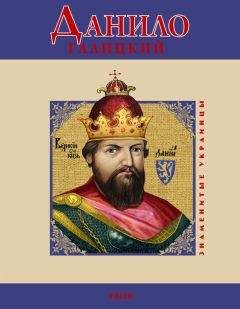— Эй, Боцман, пошли рубать! — кричит Сашуку Жорка, но Сашук притворяется, будто не слышит, и нарочно садится подальше от Жорки, рядом с отцом.
Едят долго, не торопясь — отдыхают. Потом начинают разбредаться, закуривать. Сашук так наелся кулеша и камбалы, что ему лень вставать. Кутька тоже осовел, свалился, высунув язык и выпятив вздувшийся живот.
— Привез все-таки… — говорит Игнат. — Бить тебя некому.
— А за что бить? — спрашивает Жорка.
— Чтоб собаку за собой не таскал. Баловство. Собака на цепи должна сидеть. Чтобы злой была.
— А ты сам на цепи сидеть пробовал?
— Мне незачем. Сажают кого следует…
Лицо Жорки краснеет, потом начинает бледнеть, а на открытой шее вздуваются толстые жилы. Но он перемогается и, помолчав, говорит:
— Ладно, считай, что я пока не понял… Только ты не зарекайся — еще сядешь. За жадность. Жадности в тебе на всю бригаду хватит.
— Ты меня не воспитывай, за собой лучше гляди…
Игнат поднимается и уходит в хату.
— Кугут чертов! — сквозь зубы говорит Жорка. — Собачонок ему помешал… Как его зовут?
— Кутька, — нехотя отвечает Сашук. Он решил про себя ни за что больше не водиться с этим Жоркой, но как же не ответить, если Жорка вступился за кутенка.
— Ну, кутька… Все щенята кутьки. Надо, чтобы свое имя было, на особицу… Ишь наел пузо, выгнулось, как бимс…
— А что это — бимс?
— Балки, на которых палуба лежит… Эй, ты, — Жорка щелкает пальцами, — Бимс, иди сюда!
Кутька поднимается и, волоча по пыли живот, подходит к нему.
— Гляди-ка, сразу понял! — радуется Жорка и начинает теребить щенка.
Тот опрокидывается на спину, задирает лапы и подставляет свой вздувшийся живот, на котором сквозь редкую белую шерсть просвечивает розовая кожа.
— Да ну, — говорит Сашук и поднимает щенка на руки, — нечего над ним командовать.
Он снова идет к морю, садится над обрывом, кутька укладывается рядом. Ветер ерошит сверкающую гладь, волны у берега становятся больше, шипят и пенятся, распластываясь на песке. Чайки бесшумно скользят на распростертых крыльях, потом поворачивают и летят обратно, как патруль. Время от времени то та, то другая камнем падает на воду и снова взмывает вверх, держа в клюве рыбину. Чайка на лету заглатывает ее и опять неторопливо летит туда, потом обратно. А один раз большая чайка нападает на маленькую и отнимает у нее добычу. Маленькая чайка кричит, и тогда громко, пронзительно начинают кричать и другие чайки. Должно быть, они тоже возмущаются и сердятся на здоровенную ворюгу…
— Ты чего тут сидишь? Пойдем купаться?
Рыжий Жорка тихонько подходит, останавливается сзади. Сашук оглядывается на него и отворачивается.
— Никуда я с тобой не пойду.
— Что так? — Жорка садится рядом. — За транспортер обиделся? А ты не сердись. На сердитых, говорят, воду возят… Пошли.
— Не хочу. И мамка не велит с тобой.
— Почему?
— Она говорит, ты бандит.
Жорка вспыхивает и тут же бледнеет. И снова на шее у него вздуваются толстые жилы, а на щеках играют желваки, будто он катает за щеками орехи.
— Дура она, — помолчав, говорит он.
— Моя мамка не дура! — кричит Сашук.
— Ну, верно — про мамку так нельзя… Только зря она так говорит.
— И не зря! Она говорит, ты в тюрьме сидел.
— Ну, сидел…
— Вот! Значит, правда… А как это в тюрьме сидят?
— Да очень просто: запрут тебя под замок в камере — ну, в комнате такой, каменной, — и сидишь. И год, и два, и три… Какой срок дадут.
— И все время в камере? А на улицу?
— Какая уж там улица… — невесело усмехается Жорка. — Только если на работы пошлют.
— А за что в тюрьму сажают?
— Кого как — за воровство, за убийство, по-разному…
— А тебя за что?
— За дурость. Начальника одного побил.
— Разве начальников можно бить?
— Некоторых следует, только не кулаками. От кулаков все равно толку не будет, тебе же хуже…
— А за что ты его?
— Гад он был. Форменный самодур. Людей, можно сказать, мордовал… Хочет — дает работу, хочет — поставит на такую, что припухать будешь, а кто слово скажет — вовсе выгонит… Там почти сплошь бабы работали. А бабы известно: молчат да плачут. Ну, я и срезался с директором. «В чем дело, говорю, товарищ директор? У нас советская власть или нет?» — «Советской власти, говорит, такие, как ты, не нужны». — «Ах ты, говорю, мешок кишок, за всю советскую власть расписываешься? Думаешь, ты советская власть и есть?» Слово за слово. Я, когда остервенюсь, себя не помню. Сгреб чернильницу — у него здоровая такая, каменная была — и в морду… При свидетелях. Ну, мне припаяли политику, вроде я против власти. Десятку дали. Пять лет отсидел, похлебал соленого. Потом пересмотрели, выпустили… Это давно было, в пятьдесят втором…
— А где он теперь, этот… самордуй?
— Самодур? Не знаю… Может, и сейчас в начальниках ходит. Да черт с ним!.. Пошли искупаемся, жарко.
— Не… Дядя Семен сказал, там дна нет.
— Как это — нет? Дно везде есть. Или ты плавать не умеешь?
— Умею. Только я боюсь, если без дна.
— Есть дно, есть. Пошли, вместе достанем.
Неподалеку от причала обрыв переходит в пологий откос. Разъезжаясь ногами в раскаленном песке, они сбегают по откосу к воде. Кутька кубарем скатывается следом, потом долго трясет головой и чихает.
— Вон оно, дно, видишь? — говорит Жорка, раздеваясь.
— А там? — показывает вдаль Сашук.
— И там есть, только глубоко. И туда тебе плыть нельзя — утонешь.
— А чего это у тебя нарисовано? Разве на человеках рисуют?
На груди у Жорки синими точками наколоты бубновый туз, бутылка и женская нога. И сверху написано: «Что нас губит».
— Дурость! — отмахивается Жорка. — На дураках и рисуют.
— Ты разве дурак?
— Был. Может, и сейчас малость осталось.
Он разбегается, ныряет и так долго плывет под водой, что Сашук начинает думать, что он уже захлебнулся и утонул.
— Давай, Боцман! — кричит, отфыркиваясь, Жорка. — Ныряй!
Сашук набирает в себя побольше воздуху — у него даже щеки надуваются пузырями, — складывает ладошки возле самого носа, ныряет и… едет животом по песку на мелководье. Жорка хохочет.
— Чудик! Что ж ты землю пузом пашешь?
— А если тут мелко? — обиженно говорит Сашук.
— На тебя не угодишь — то глубоко, то мелко. — Жорка подплывает ближе, становится на ноги и пригибается. — Влезай на плечи.
Сашук вскарабкивается, вцепляется в его рыжие волосы. Жорка распрямляется, и Сашуку даже жутко становится, так высоко он поднимается над водой, — Жорка только чуть-чуть поменьше Ивана Даниловича.
— Готов? Але-оп!
Жорка встряхивает плечами. Сашук, не успев сложить ладошки, враскорячку, как лягушонок, плашмя плюхается в воду.
— Ну как?
— Здорово! — кричит Сашук. — Бимс, сюда!
Кутенок стоит у самого уреза, пятится от набегающих волн и тявкает. Сашук ловит его, подняв на руки, несет в воду. Кутенок скулит и вырывается. Сашук заходит по грудки, пускает щенка. Тот захлебывается, фыркает и отчаянно молотя лапами — плывет. Сашук идет следом и хохочет. Выбравшись на песок, Бимс трясет головой, висячие уши шлепают его по морде, как мокрые тряпки.
— Тут лучше купаться, чем у нас в Ялпухе, — говорит Сашук, совсем уже запыхавшись и улегшись на песок.
— Вода соленая, сама держит.
— А почему никто не купается, рыбаки наши?
— Они уже старые, им не хочется.
— Так ты ведь тоже старый.
— Еще не очень — только тридцать два года… Пошли, а то мамка тебя хватится, шухер поднимет.
Они поднимаются по откосу.
— Там чего? — показывает Сашук на решетчатую башню со скворечницей наверху.
— Пограничная вышка. Пограничники сидят, границу сторожат.
— От шпионов?
— Ну да.
— Пойдем посмотрим.
— Чего там смотреть? Да и они увидят — прогонят.
— А если ночью? Они и не увидят.
— Ночью, брат, спать надо.
— А там чего?
— Дот был. Немецкий.
Развалины дота недалеко от обрыва. Из уцелевших оснований бетонных стен торчат скрюченные железные прутья, покореженные балки. Щебень, присыпанный землей, зарос бурьяном. Сашук пробует обхватить остаток стены, но пальцы его не дотягиваются до краев. От дота, немного не доходя до обрыва, змеятся осыпавшиеся, заросшие окопы.
— Может… — с надеждой в голосе говорит Сашук, — может, тут пули остались, а? Давай поищем?
— Как же, двадцать лет лежат, тебя дожидаются… Вон мамка бежит, сейчас она отольет тебе пулю.
Мать быстро-быстро идет им навстречу. Она даже не смотрит на Жорку, будто его совсем и нет, шлепает Сашука, хватает его за руку и тащит к дому. Только когда Жорка остается далеко позади, она сердито шипит: