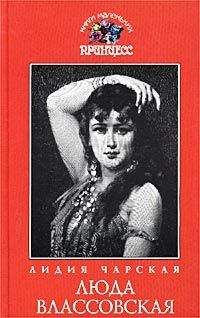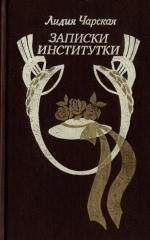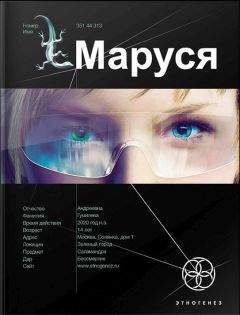Не без радостного трепета вошли мы туда. Комната выходила окнами на улицу. Но к этому обстоятельству мы уже привыкли в предыдущие годы, так как, начиная с IV класса, ежегодно занимали помещения, выходившие на улицу.
— Ах, душки, солнышко! — наивно обрадовалась миниатюрная и болезненная на вид Надя Федорова, всегда приходившая в умиление кстати и некстати.
Действительно, солнце светило вовсю, желая как будто поздравить нас с новосельем. Оно заливало ярким светом белоснежный потолок класса, его красивые, выкрашенные в голубую масляную краску стены, громоздкую кафедру, черные доски и бесчисленные карты всех частей света и государств мира, тщательно развешанные по стенам.
— Как это странно, mesdam'очки! — произнесла Миля Корбина, устремляя в окно свои всегда мечтательные глазки. — Как это странно! Вчера еще мы слонялись по саду и шалили сколько душе было угодно, а сегодня снова занятия, классы, звонки, съехавшиеся институтки и вся по-старому заведенная машина.
— А я, признаться, рада, душки, что лето миновало, — вставила свое слово быстроглазая Кира, — в ученье время скорее пролетает до выпуска…
— Mesdames, prenez vos places![1] — раздался в наших ушах неприятный, пронзительный голос m-lle Арно, — mousieur Вацель, va rentrer a l'instant.[2]
— Неужели пришел? — с сожалением произнесла Бельская. — Ах, душки, — обратилась она сокрушенно к классу, — не ожидала я от дяди Гри-Гри такой подлости, право: пришел аккуратно в первый же урок.
Как бы в подтверждение ее слов прозвучал звонок в коридоре, классная дверь широко распахнулась, и могучая, плотная фигура с громадною, львинообразною головою, покрытой густой гривой черной растительности, ввалилась в класс.
— Здравствуйте, старые знакомые, хозяюшки и умницы, — прогремел над нами сильный и мощный бас нашего общего любимца Григория Григорьевича Вацеля, преподавателя геометрии и арифметики в старших классах.
Совсем особенный человек и совсем особенный учитель был этот «дядя Гри-Гри», как мы его называли. И манера преподавания у него была совсем особенная. Его уроки проходили всегда не иначе как с шутками, прибаутками, смехом и остротами. Он говорил о самых скучных предметах с самой подкупающей веселостью. За все семь лет я не помню, чтобы у него хоть раз было скучающее лицо на уроке или даже чтобы он задумался когда-нибудь на минуту. Свою математику он любил больше всего на свете и о цифрах, правилах и задачах говорил так же нежно, как о собственных детях.
В его уроки шум и гвалт в классе стояли всегда невообразимые. Воспитанницы вскакивали со своих мест, окружали кафедру, вспрыгивали на пюпитры, чтобы лучше увидеть решение задач на досках и услышать объяснения учителя. Классные дамы давно потеряли надежду на восстановление дисциплины, отсутствующей на уроках Вацеля, и махнули на него рукой. Они старались даже не присутствовать во время его класса, зная всю бесполезность их замечаний, так как дядя Гри-Гри был горячим защитником девочек, и являлись только по звонку, возвещающему об окончании урока.
— И отлично, — встряхивая своею черною гривою, восклицал дядя Гри-Гри, когда щепетильная m-lle Арно, презрительно поджимая губы, удалялась с его урока, унося с собою рабочую корзиночку с ее бесконечным вязаньем, — мы и без полиции обойдемся. Только вы меня не съешьте, девицы, из лишнего усердия, — добавлял он с комической гримасой, поднимавшей целый взрыв хохота.
С веселым хохотом решались у нас труднейшие теоремы и самые запутанные задачи, до которых Вацель был, к слову сказать, большой охотник. Лени, рассеянности, невнимания он не переносил. В минуты гнева он был положительно страшен.
— Вздор мелете, околесицу несете, синьорина вы моя прекрасная! — напускался он грозно на ленивую воспитанницу, выпучивая при этом свои изжелта-карие круглые глаза и вращая ими во все стороны. — Вам не задачи решать, а хозяйством заниматься да кофеи пить надо, вот что-с. Пожалуйте-кась в «Камчатку» да отдохните за кофейком! Стыдно-с вам! Стыдно!
И злосчастная синьорина покорно направлялась в «Камчатку» (так у нас назывались последние скамейки в классе), заранее зная, что в журнальной клетке против ее фамилии к концу урока водворится «сбавка».
Манера ставить баллы у Вацеля была совсем исключительная. Он не признавал никаких границ в этом направлении. Если ученица при переходе из класса в класс имела, положим, восьмерку, то за первый же порядочный ответ он делал ей прибавку на один балл и ставил девять. Еще удачный ответ — еще прибавка и т. д. Плохо отвечала воспитанница — ей делалась сбавка на балл; вторичный плохой ответ — новая сбавка, и, таким образом, сбавки доходили до нуля. Когда же сбавлять оставалось не с чего, неумолимый в таких случаях Вацель выстраивал целую шеренгу нулей до тех пор, пока лентяйка не одумывалась и, взявшись за ум, не награждала математика более удачным ответом. Тогда начинались прибавки, которые могли идти без конца, достигая крупных цифр, переходящих за сто. За среднюю отметку бралась последняя цифра, конечно если она не превышала двенадцати баллов.
Девочкам, получившим 105 и 106 и т. д. баллов, Вацель выводил в среднем 12 и при этом шутил добродушно:
— Эх-ма! Под горку-то как покатила моя умница!
Его боялись, но любили за его крайнюю справедливость. Начальство снисходительно относилось к его чудачествам и смотрело на них сквозь пальцы, потому что Вацель считался знатоком своего дела и был очень популярен среди учебного и педагогического мира.
Сегодня дядя Гри-Гри пришел к нам в особенно приятном и веселом расположении духа.
— Ну, вот вы и большие девицы, — шутил он, с трудом взгромождаясь на кафедру своей тяжелой, гигантской фигурой. — Радуюсь за вас, синьорины мои милые, кофейницы мои и умницы! (Кофейницами и хозяюшками дядя Гри-Гри называл лентяек, умницами — прилежных.) Поди теперь и сбавок нельзя будет делать… Загрызете!
— А у нас, Григорий Григорьевич, новость! — неожиданно «вылетела» Бельская, метнув предварительный взгляд на пустующее место классной дамы. — Новенькая к нам в класс поступит!
— Ну? — удивленно протянул Вацель, взявший было перо в руки, чтобы расписаться в классном журнале.
Но Белке не пришлось ответить, так как ее соседка — смуглянка Кира — так сильно дернула ее за конец передника, что она разом шлепнулась на место.
— Ты, душка, дура! — ожесточенно зашептала Кира. — Разве можно говорить про это?
— А что? — искренно удивилась Белка.
— Батюшки, да она рехнулась! — окончательно возмутившись, негодовала Кира. — Ведь это тайна, глупая! Ведь Саре Крошка сказала по секрету, значит, это тайна! А ты выдала Сару.
— Ах, чепуха! — разозлилась в свою очередь Бельская. — Этого не говори, того не говори, о чем же и говорить-то после этого?
— Ты бы еще про последнюю аллею и про серый дом рассказала, — не унималась расходившаяся Кира, — куда как хорошо было бы!
Этот серый дом, упомянутый девочкой, играл важную роль в нашей институтской жизни.
В то время как младшие и средние классы с началом весны разлетелись на каникулы по всем уголкам России, мы, перешедшие из II-го в выпускной класс, должны были оставаться все лето в институте. Это делалось, во-первых, для того, чтобы усовершенствоваться в языках, а во-вторых, для изучения церковного пения на клиросах институтской церкви, где певчими обязательно были институтки-старшеклассницы. Проводить лето в стенах института не считалось особенным лишением. Все три месяца мы буквально прожили на воздухе в густом, громадном институтском саду, бегали на гигантских шагах, качались на качелях, играли в разные игры. Мы даже принимали наших родственников и знакомых на институтской садовой площадке, окруженной кустами бузины и сирени, с куртинами цветов посреди нее, наполняющими сад острым, приятным ароматом. Раз в неделю нас водили осматривать разные заводы и фабрики или брали кататься за город — в Царское Село, Гатчину и Петергоф. Никто не скучал летом среди массы разнообразных впечатлений. К тому же мы сами всегда выдумывали себе развлечения среди однообразной институтской жизни. Одно из них заняло нас надолго.
Густая и тенистая «последняя аллея», где и днем-то было всегда мрачно, а вечером положительно жутко от прихотливо, в виде живой кровли, разросшихся дубовых ветвей, вела от веранды через весь сад к противоположной невысокой каменной ограде. Аллея заканчивалась маленькою площадкою, тесно окруженною пышными кустами акаций. Здесь, около этой площадки, ограда была еще ниже, так что позволяла видеть громадный серый дом с заколоченными ставнями на готических окнах, с массивными колоннами, висячими балкончиками и стрельчатой башенкой над крышей. Дом был обращен к нашему саду задним фасадом и казался необитаемым.
Институтки, всегда склонные к мечтательности, обожавшие все таинственное, из ряда вон выходящее, распустили о старом доме самые фантастические и легендарные слухи: говорилось, что в сером доме бродят привидения, мелькает свет по ночам через щели ставен и слышится по временам чье-то заунывное пение.