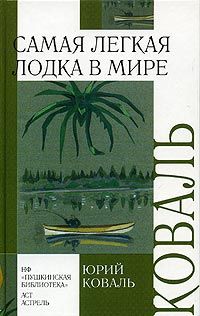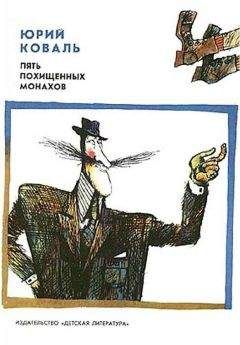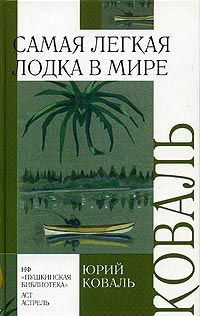Я погасил свет и лег. Хотелось поскорей отвлечься от колбасы и Петровича – подумать, помечтать о своей лодке.
Прикрыв глаза, я увидел ее лежащей на ковре у Мастера, мигнул – перенес на озеро. Серебристая по голубому, легко резала она волны, перелетала подводные камни, пробиралась узкими протоками через болотные травы – таволгу, камыши.
На кухне гремел кастрюлями Петрович, шипело и лопалось на сковородке сало, а лодка моя плыла к далеким островам, и казарки летели ей навстречу.
Вдруг стало стыдно, что я засунул лодку под кровать. Пожалуй, она должна была находиться на более почетном месте.
Я зажег свет и оглядел комнату. В старом продавленном кресле лодка не умещалась, а на шкафу, пыльном и паутинном, место было скорее позорным, чем почетным.
И особенно жалким и горьким показался мне пол, где, давно прогнившие, шевелились и прогибались доски, где из-под облупленной красной краски вылезала старая зеленая, из-под зеленой древнейшая охра, и из-под охры совсем нечеловеческая доисторическая чернота.
На стене, освещенная вялым электричеством, висела картина, на мольберте стояла другая.
Это были мои собственные картины, которые я написал года два назад, – «Самовар» и «Курильщица табаку». И хоть писаны они были не так давно, смотреть мне на них не хотелось.
Казалось бы, написаны они ярко и смело – активный цвет, мощные формы. Но ни цвета, ни активных форм не видел я в них, а только лишь падение мечты, крушение надежды.
По моим расчетам, эти самые картины должны были основать новое живописное течение – «шаризм». Как некогда великие французы потрясли мир «кубизмом», так и я у Петровича на Крестьянской заставе готовил живописную бомбу.
«Шаризм» – это было мое личное открытие, никто в мире не писал «шарами», только лишь я, один.
Поначалу, конечно, я старался избирать темы более или менее округлые – «Люди и арбузы», «Гитаризм под облаками». Но позднее насобачился писать шарами совершенно кубические формы. Так, уже в картине «Толстяк у телевизора» не было ни одной прямой линии, только шары и дуги.
К сожалению, выстраданный мною «шаризм» себя не оправдал. Не было последователей и меценатов. А без меценатов и последователей «шаризм» не мог распространиться по белу свету.
Шаролюбивая кисть глохла в моих руках и к тому моменту, когда я притащил лодку к Петровичу, оглохла окончательно. Несколько шаристических картин подарил я друзьям, и у меня остались только шедевры – «Самовар» и «Курильщица табаку», с которыми я решил не расставаться до самой смерти.
Гнилой пол, не нужная никому живопись, чудовищный шкаф увенчивались подходящим потолком.
И потолок был невыносим – покрытый водорослями, желтыми медузами.
Нет уж, пусть лодка не видит этого потолка, пусть лежит под кроватью, тем более что кровать – единственный, кроме «шаризма», предмет в комнате, принадлежащий мне, а значит, и ей. Эту кровать-раскладушку я купил, когда въезжал к Петровичу. Лодка, раскладушка и я были теперь одной семьей и должны были уж как-то поддерживать друг друга.
Я погасил свет и лег, решив назавтра вымыть пол под кроватью.
Петрович булькал и журчал на кухне, а мы трое забились в угол холодной чужой квартиры и старались заснуть, тесно прижавшись друг к другу.
«Мастер назвал лодку невестой, – вспомнил я. – Действительно, похожа – в серебряном платье, легкая, веселая».
Я заснул, и мне приснилась невеста, которая, свернувшись калачиком, дремала под кроватью.
Держать лодку у Петровича я боялся. Он мог проверить, что лежит в мешках, вытащить бамбучину, чтоб чистить ею, скажем, водопровод.
Везти лодку к Орлову тоже не хотелось, я и так долго мучил его бамбуком.
Но, с другой стороны, Орлов лодку не видал, а человек, который так долго терпел бамбук, имел право увидеть, что из него получилось.
И я повез лодку к Орлову.
Я был уверен, что она ему понравится, и уже в трамвае представлял себе, как будет подпрыгивать от счастья Орлов, как будет трясти мою руку, радуясь, что идея доведена до конца. Меня и самого переполняли восторг и счастье, я сиял, и мне хотелось, войдя в мастерскую, первым делом обнять старого друга.
– Что это у тебя в мешках? – спросил Орлов, открывая дверь.
– Сейчас увидишь! – с восхищением пообещал я. В моем обещании явно слышались тот праздник и сюрприз, которые скоро должны были охватить художника.
– На картошку не похоже. Неужели лодка? Сделал все-таки! Сколько же она весит?
– Сейчас взвесишь! – снова торжественно подмигнул я, отодвинул в сторону скульптурную группу «Люди в шляпах» и стал распаковывать мешки. Развязывая тесемки, я то и дело лукаво поглядывал на Орлова, приглашая его поволноваться в ожидании сюрприза.
Орлов, однако, смотрел на мешки с недоверием, а когда я вынул бамбуковые рейки, недоверие его усилилось.
– Все, что осталось от бамбука? – спросил он.
– Погоди, погоди, не торопись, – сдерживал его я и внимательно, шаг за шагом, стал собирать лодку. Мастер подробно показал мне, как это делается, и все-таки я возился долго, пока составил скелет. Красота скелета особенного впечатления на Орлова не произвела.
– Хило, – сказал он. – Слабовато.
– Бью! – воскликнул тогда я и ударил каркас ногой. От удара вылетел серебряный полумесяц-шпангоут, который я непрочно закрепил. Поставив его на место, я продемонстрировал прочность и гибкость каркаса. Орлов смотрел одобрительно, но без признаков восторга.
– Да, вроде бы скелет красив и прочен, – мямлил он, – но видали мы скелеты и попрочней, и понарядней.
Я вытащил оболочку, натянул ее, надеясь, что это прорвет плотину. Орлов немного оживился, но восторгов слышно не было.
– Легкая лодочка, – сказал он, небрежно приподымая корму. – Не думаю, что самая легкая в мире. В Кашире – возможно. А где-нибудь в Кашмире есть небось и полегче.
Я заставил его все-таки сесть в лодку, дал ему весло и сам устроился на корме. Раскачивая лодку, я придумывал будущее плавание, но Орлов шевелил веслом тускло, и спина его была каменной, неинтересной.
Когда я пришел в мастерскую, счастье и гордость распирали меня. Восторг торчал из меня, как букет из кувшина. Орлов повытаскивал из букета все цветы и бутоны, пообрывал лепестки.
– Слушай, – сказал я, – в чем дело? Тебе лодка не нравится?
– Да нет, почему? Нравится.
– А что ж ты молчишь?
– А что ты хочешь, чтоб я подпрыгивал от счастья?
– Мог бы и подпрыгнуть.
– Не хочется, – сказал Орлов и вылез из лодки. В голосе его неожиданно прозвучала обида. Но я его не обижал. Неужели он обижался на судьбу? Бамбук мы доставали вместе, в Каширу ездили вместе, а лодка получилась моя.
– Слушай, – сказал я. – Эта лодка ведь у нас на двоих. Давай будем два капитана.
– Ну нет, – ответил Орлов. – Это твоя лодка. Хотя я и сам не понимаю, почему она твоя. Бамбук мы доставали вместе, и делал ее не ты, а Мастер. Ты и топор-то держать в руках не умеешь. Так что особенно не хвастайся. А то раскричался: самая легкая в мире! Я построил!
Я слушал Орлова, и голова моя все ниже клонилась к полу. Уже не увядшим букетом и даже не пустым кувшином чувствовал себя я, а разбитой бутылкой, в которую временно ставили цветы.
Моя лодка лежала передо мной, и ничего моего не было в ней – бамбук милиционера-художника, помощь Орлова, талант Мастера. Моими оставались только тельняшка и зуб золотой.
– Ладно, – сказал я. – Будь ты капитаном, а меня возьми матросом.
– Я капитан скульптурной группы «Люди в шляпах», – возразил Орлов. – Будь сам капитаном, а матросом бери кого хочешь.
Орлов отказывался от меня, посылал вместе с лодкой на все четыре стороны.
Пришибленный, просидел я в мастерской Орлова до вечера.
Давно пора мне уже было разобрать лодку и уйти, а я сидел, пил чай.
К вечеру в мастерской стали собираться люди. Пришел некоторый Петюшка Собаковский, пришла девушка Клара Курбе и неожиданно – милиционер-художник. Оказывается, Орлов близко сошелся с ним на почве граммофона. Милиционер Шура и принес граммофон, завернутый в газету.
Увидевши меня и лодку, Шура частично растерялся. Рыская глазом, пытался он найти признаки бамбука, спрятанные под серебряным платьем.
– А почему она серебряная? – сказал наконец он.
Я стал объяснять, а Петюшка и девушка Клара подошли к лодке, не замечая принесенного граммофона.
Между тем, по замыслу Шуры, именно граммофон должен был оказаться героем вечера. В глазах милиционера-художника мелькнуло беспокойство. Он понял, что лодка может помешать граммофону. Послушав меня минутку, Шура кинулся разворачивать граммофонную трубу.
– Осторожно! – воскликнул Орлов. – Не повреди раструб!
Тут я понял, что и Орлову лодка мешает. По его замыслу, гости должны были весь вечер под звуки граммофона и при свете керосиновых ламп смотреть на скульптурную группу «Люди в шляпах».