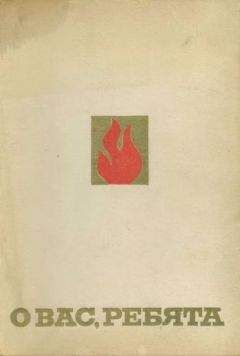Весь следующий день ребята провели в избе-читальне. Они о чем-то переговаривались, спорили, а потом писали на отдельных листочках хлесткие, грубые фразы, вроде такой: «Дураки! Идите к доктору, а не к Мотре! Она еще отравит вас!» Или: «Это лекарство взято из свинячьего навоза. Кто его съест, — тот сам свинья и олух».
Подобных изречений было придумано и написано десятка два. А к вечеру бумажки с надписями оказались аккуратно разложенными в кульках бабкиной «аптеки».
Теперь оставалось ждать результатов. Никита приказал Захарке не выходить из избы — следить, кому старуха выдаст пакеты. Чтобы не скучать, Захарка примостился на пороге в сенях и начал вырезать узоры на длинной кленовой палке.
Шаркая дырявыми валенками, которые не снимались с ног ни зимой, ни летом, бабка, кряхтя, подметала крыльцо. Захарка добродушно поглядывал на нее. А она, проходя мимо, дружелюбно погладила его по голове. Оба были довольны: Захарка оттого, что старуха ничего не подозревает, а Мотря по другой причине. Деревенские кумушки рассказали ей о странном нашествии блох во время посиделок. Мотре понравилась исполнительность Захарки.
Положив веник, бабка выпрямилась, придерживаясь за поясницу.
— А что, Захарушка, мы с тобой еще поживем! — произнесла она. — Моя голова — твои руки… Оно и кстати пришлось! Ты только слушай бабку…
Захарка склонил голову к самой палке, чтобы старуха не заметила озорной улыбки.
Наступили сумерки. В такое время чаще всего приходили к бабке «пациенты». Это объяснялось очень просто. Днем старухину избу обходили стороной. Никому не хотелось на виду у других наведываться к знахарке. Больные предпочитали иметь дело с Мотрей тайком, без посторонних глаз, без свидетелей. Каждый, кто заглядывал в ее избу, испытывал не то стыд, не то страх. Но болезнь и привычка заставляли не считаться с чувствами. Шли обычно не по улице, а задами — огородами. Шли и оглядывались, выбирая тропку поуже и потемнее.
Анфиса не была исключением. Она тоже тайком прокралась к избе Мотри и проскользнула мимо Захарки, который все еще сидел на пороге.
Отдышавшись в темных сенях, Анфиса спросила у него:
— Бабка-то дома?
Захарка не успел ответить. Старуха опередила его — приоткрыла дверь, юркнула из избы в сени и заговорила оживленно, как с дорогой долгожданной гостьей:
— Дома, дома… А как же? Милости просим!.. Ай-ай! Что? Никак с ручкой что-то?
Зоркие глаза были у старухи. Даже Захарка не приметил в темноте, что правая рука у Анфисы перевязана куском холстины, а Мотря сразу увидела повязку.
— Верно, с рукой, — подтвердила Анфиса. — Мучаюсь третью неделю… Брусок соскочил — чиркнула пальцами по косе… Все зажили, а большой гниет… Хуже и хуже… Дергает — аж под сердцем отдается! Разнесло — в кулак!
— Большой? — спросила старуха.
— Большой.
— На правой?
— Да.
— Сглазили тебя, милая! — решительно заявила Мотря. — Дурьян сквозь ранку пущают…
— Кто?
Старуха уловила в голосе молодой женщины нотки недоверия и тоном опытной гадалки затараторила, припоминая все, что знала об Анфисе и ее родственниках:
— Семья-то не малая, и у каждого по паре глаз. Одни добрые, а другие злые, стрекалистые. А палец большой — вот тебе и указ: ищи злой глаз у важной птицы-синицы. А палец на правой руке — вот тебе и второй указ: ищи справа от себя.
Недоверчивость Анфисы растаяла, уступив место мгновенной подозрительности. Вспыхнули недавние обиды. Таинственная птица-синица представилась Анфисе в образе драчливой горластой свекрови, которая сидит за столом всегда справа от Анфисы.
Бабка, почуяв, что нащупала больное место, пошла в наступление. Она схватила с лавки небольшой узелок с творогом, который принесла с собой Анфиса, протянула его женщине и, повысив голос, веско сказала:
— Узелок забери. Придешь в полночь на озеро — к осине. Тогда и принесешь, да не такой… А то… дурьян по жилкам пойдет, пойдет — в голову ударит — и поминай как звали!
* * *
Туман окутал озеро. Звезды с холодным равнодушием смотрели на землю. Спали деревья. Луна лениво выползала из-за горизонта. Донесся отдаленный собачий вой. На осине зашептались:
— Чей это завыл?
— Председателев… Дурной пес какой-то… Без толку воет!.. Говорят, луна на собак действует…
— Хватит! — прикрикнул на ребят Никита и чуть не упал со скользкого сука осины.
Чтобы удержаться, он обеими руками ухватился за ствол. Длинный рупор, склеенный из картона, скатился с его коленок и стал падать с сучка на сучок. Никита чертыхнулся, заерзал и хотел слезать с дерева, но внизу чернели головы и плечи ребят, со всех сторон облепивших дерево.
— Васька, слазь за рупором! Уронил из-за вас… — прошептал Никита. — Мне никак… Столкну еще кого ненароком…
Не испытывая особого удовольствия, Васька Дроздов с трудом отклеился от теплой спины сидевшего рядом с ним мальчишки и спрыгнул на землю. Он действовал с лихорадочной быстротой, стремясь поскорее возвратиться на старое место.
— На! — сдавленным шепотом произнес он, протягивая Никите рупор.
— Теперь замрите! — последовал в ответ категорический приказ. — Не говорить, не шевелиться, а то листья шумят… Скоро придут…
Замерла осина. Перестал выть пес. Луна беззвучно кралась по небу и постепенно светлела, будто улыбалась хитрости мальчишек и поощрительно подмигивала темноватыми глазницами: «Не бойтесь! Не выдам!»
Ничего не подозревая, бабка Мотря около полуночи встретилась с Анфисой за околицей спящего села, с жадным любопытством посмотрела на узелок, зажатый в левой руке женщины, отметила про себя, что он вырос в три раза, и бойко зашлепала в валенках к озеру. Анфиса, крадучись, сдерживая дыхание, пошла за ней.
Остановились под самой осиной.
Бабка вытащила из-под рваной накидки оловянный ковшик, обошла вокруг осины, помахала ковшиком в воздухе, сказала утробным голосом:
— Ух! Повезло тебе, молодуха!.. Стой и молчи!.. Отведу дурной глаз!..
Приплясывая и приседая, старуха поскакала к озеру, зачерпнула ковшиком воды, брызнула на Анфису из пригоршни, остальное выплеснула на осину и ударила ковшом по стволу дерева. Дребезжащий звук раздался в ночи. Бабка присела, приложила руки к уху, вытянула шею.
— Летят! Слышишь?
— Н-нет… Н-не с-слышу! — отозвалась Анфиса.
— Слушай! Летят! Летят! Близко уже!.. Слышишь? — провизжала старуха.
В это время зашелестели листья на осине, и Анфиса, прикрыв рукавом лицо, дрожа всем телом, ответила:
— С-с-слышу…
И тут, казалось, с неба прогремел усиленный, искаженный рупором голос Никиты:
— Анфиса! Слушай, что надо делать!
Никита выдержал короткую паузу и закончил:
— Здоровой рукой тресни Мотрю по шее, а с больной завтра же поезжай к врачу!
Первой кинулась прочь от дерева старуха. Анфиса побежала несколькими секундами позже.
Никита проревел в рупор:
— По шее! По шее ее!
Слепой панический ужас гнал Анфису все быстрее и быстрее. Поравнявшись со старухой, она даже не услышала отчаянную мольбу бабки:
— Анфиса!.. Анфисушка! Милая! Не бросай ты меня, старую! Ножки буду целовать — не бросай на погибель!.. Анфи-и-исушка!
А сзади рычало, гоготало, заливалось смехом многоголосое веселое эхо…
Пока разыгрывалась эта лесная комедия, Захарка выполнял другое задание. Он сходил к избе, в которой жила Анфиса, и приклеил к двери большой лист бумаги с такой надписью: «Анфиса! Никаких чертей на озере не было. Это мы решили испугать бабку Мотрю, чтобы она больше не морочила людей. Не верь бабке — иди к врачу. Пионеры».
Когда бабка Мотря, полуживая от страха, ввалилась в избу, Захарка преспокойно лежал на печи и спросил невинным сонным голосом:
— Бабушка, ты где была?
* * *
После той ночи над бабкой Мотрей посмеивались все чаще и чаще. Рассказывая подружкам о своем происшествии, Анфиса не пожалела красок. Ее рассказ был не очень правдив. По словам Анфисы, выходило, что она-то не испугалась, а вот старуха — та чуть не окочурилась.
Мальчишки не стремились восстановить истину. Им было важно подорвать веру в знахарские способности Мотри, и они частично добились своего.
Первое время «пациенты» все еще захаживали к бабке, но старуха больше не водила их на озеро, а давала кульки из своей «аптеки», не подозревая, что с каждым пакетиком теряет силу над людьми. Вместе с трухой больные находили в них записки ребят.
Последний удар нанес старухе трактор.
Сполз он ранним утром с железнодорожной платформы, медленно, но настойчиво осилил тридцать пять километров плохой проселочной дороги, по которой никогда еще не проходила ни одна машина. К полудню, довольно урча и отфыркиваясь керосиновым перегаром, трактор въехал на пригорок. Отсюда открывался вид на село.